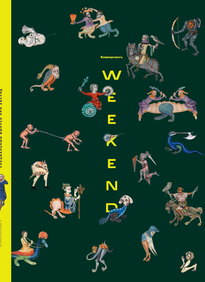В ГМИИ имени Пушкина открывается выставка «"Русский Йорданс". Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России», московский вариант экспозиции, показанной ранее в Эрмитаже. Ее основу составила живопись и графика из Эрмитажа, самого богатого Йордансом музея России, а также Пушкинского музея, художественных музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Перми и даже Александро-Невской лавры
В табели о рангах фламандского золотого века Йордансу по справедливости следовало бы отвести третье место — после Рубенса и ван Дейка. Но в России он, кажется, спустился на четвертое, уступив Снейдерсу. Все же эрмитажный зал Снейдерса с «Лавками», которые, даром что натюрморты, в ансамбле могут соперничать с большими циклами «исторических» картин, приподымает художника над жанровым гетто: в грандиозной аллегории стихий мы видим и хваленое жизнелюбие, и философичность, и непринужденную виртуозность — словом, самую суть Фландрии и антверпенской школы, воплощением чего по привычке считаем Рубенса. Меж тем именно Якоба Йорданса (1593–1678) почитали самым фламандским фламандцем и самым антверпенским антверпенцем. В отличие от Рубенса и ван Дейка он, например, по заграницам не пропадал, ни в каких Италиях не учился (хотя и подцепил итальянскую бациллу караваджизма, но это была общеевропейская эпидемия) и всю свою жизнь просидел в Антверпене, отлучаясь разве что в ближнее зарубежье — в родную по языку, но инородную по вере Голландию. Сидел в Антверпене — и всех пересидел: после того как один за другим скончались Рубенс и ван Дейк, Йорданс на добрые четверть века сделался первой кистью города. Но дело, конечно, не в этом домоседском патриотизме, а в том, что именно в искусстве Йорданса воскресли исконно фламандские, брейгелевские сюжеты — народных пословиц и народных праздников.
В пяти российских городах хранится 19 картин, приписываемых художнику в той или иной степени (где-то работала мастерская, отдельные вещи написаны Йордансом в сотрудничестве с другими антверпенскими мастерами, Паулем де Восом или Андрисом Даниельсом). Все они ранее находились в Петербурге — в картинной галерее Эрмитажа, во дворцах петербургской знати, чьи национализированные сокровища пополнили эрмитажную коллекцию после революции, или в частных петербургских собраниях. И если «Пир короля» попал в Молотов-Пермь после войны как дар ленинградского архитектора Михаила Бенуа — в благодарность за спасение эвакуированных блокадников, то с Москвой, Свердловском-Екатеринбургом и Горьким-Нижним Ленинград делился Йордансом не вполне добровольно. Все 19 картин впервые собраны вместе на выставку (в 1979 году, к 300-летию со дня смерти Йорданса, в Эрмитаже устроили монографическую экспозицию, но из других музеев в ней участвовала только Пермская художественная галерея), какую вполне можно было бы назвать не «русским», а «петербургским Йордансом». Для Эрмитажа, у которого ГМИИ имени Пушкина вновь пытается отобрать московские коллекции Щукина и Морозова, это жест политический: уж если заниматься переделом, то Пушкинский музей рискует остаться без старых мастеров, главным образом — эрмитажного происхождения.
Как бы то ни было, среди этих 19 картин всенародно известных и любимых «русских Йордансов» по большому счету всего два: эрмитажный «Бобовый король» и пушкинский «Сатир в гостях у крестьянина» — самые занятные в плане сюжетов, лежащих на поверхности, и интимной истории, оставшейся «за кадром». Так, в первой сцене, как раз и относящейся к «исконно фламандскому» пласту йордансовского творчества, роль счастливчика-короля, кому достался кусок праздничного пирога с запеченным бобом и кто по этому поводу совсем осоловел от выпитого, сыграл антверпенский живописец Адам ван Норт, учитель и тесть Йорданса, в образе королевы он будто бы запечатлел свою старшую дочь, а в выпивохе, высоко поднимающем кувшин с вином за спиной шуточной королевской четы, благодаря многочисленным автопортретам легко узнается сам художник. (Речь не об эрмитажном «Автопортрете с родителями, братьями и сестрами», прекрасном караваджистском концерте, где Йорданс, только что принятый в мастера антверпенской гильдии Святого Луки, этакий модник с лютней в руках, глядит надменным мальчишкой во вкусе Караваджо,— тут он совсем молод.) Что же касается второй комедии на тему Эзоповой басни, там в роли крестьянки, дискутирующей с сатиром, пока мужская часть семейства, туповато уставившись на гостя, поглощает горячую похлебку, занята йордансовская жена Катарина ван Норт. И пусть оба сюжета часто повторяются в творчестве Йорданса, и пусть куда более известны будапештский «Сатир» с парижским и венским «Бобовыми королями», наши «русские» тоже хороши, но все же не они окажутся главными героями выставки (тем более что эрмитажного «Короля» в Москву не везут).
На «Русском Йордансе» зрителя ждет несколько сюрпризов. Скажем, екатеринбургские «Мелеагр и Аталанта», картина на актуальный феминистический сюжет Овидия про вековечное желание мужчин присвоить себе все женские достижения, в данном случае — отобрать у храброй девы-охотницы трофей, потому что ей, дескать, и одной рубенсовской красы достаточно. Ранее полотно атрибутировалось мастерской Йорданса, но при реставрации в 2013 году, когда холст очистили от лака, была обнаружена подпись художника, и теперь специалисты сравнивают бесспорный антверпенский и новообретенный екатеринбургский варианты, пытаясь понять, какой сделан раньше и почему в Антверпене Аталанта выглядит неуклюжей толстомордой мужичкой, а в Екатеринбурге — аристократической прелестницей, хотя обе писаны с одного эскиза. Или вот чудесно обретенное «Оплакивание Христа», которое прибудет на выставку из Александро-Невской лавры. Чудесно обретенное — в том смысле, что картина, два века тихо провисевшая в петербургской церкви, вновь попала в поле зрение искусствоведов лишь недавно: Екатерина II купила «Оплакивание» в составе той самой коллекции прусского купца Гоцковского, что и положила начало Эрмитажу, но спустя 30 лет пожертвовала полотно Троицкому собору Александро-Невского монастыря — возможно, не столько из набожности, сколько разочаровавшись в живописных достоинствах вещи, которая продавалась как работа Рубенса. В общем, о существовании этого памятника «православного фламандского барокко» благополучно забыли.
Конечно, и новонайденной махине, и эрмитажному «Оплакиванию Христа», изумительному по красоте хореографии, освещения и колорита, исполненного символического смысла и пленяющего созвучием алого платья апостола Иоанна и золотистых одежд Никодима и Марии Магдалины, далеко до таких шедевров религиозной живописи Йорданса, как луврское «Изгнание торгующих из храма», ничуть не уступающих Рубенсу в живописной маэстрии. Однако о Рубенсе, чьим самым разносторонним и многоплановым — не в пример портретисту ван Дейку или натюрмортисту Снейдерсу — сотрудником был Йорданс, на эрмитажно-пушкинской выставке придется вспомнить не раз. Прелестный ангелочек из «Трех этюдов детской головки», попавший в Эрмитаж как работа Рубенса, напомнит о рубенсовских образах, писанных с собственных детей с таким нескрываемым и в целом не свойственным эпохе чадолюбием: считается, что здесь изображена во младенчестве старшая дочь Йорданса Елизавета (та, что позднее, возможно, станет спутницей эрмитажного «Бобового короля»). Утопающий в роскоши и, разумеется, задумавшийся о бренности мира неизвестный с «Портрета старика», приобретенный для Эрмитажа опять же как произведение Рубенса, в плане портретного мастерства не уступает ни ему, ни ван Дейку. И только три десятка рисунков, в каких, быть может, и не встретишь рубенсовской гибкости и грации, выдают в Йордансе руку совершенно особенную — рисующую зачастую без всякой практической цели, не ради дальнейшего применения в алтарных картинах или шпалерах, а просто так, по воле сердца, чего с тем же Рубенсом не случалось.
Пожалуй, из всех картин на сюжеты Священного Писания лучший «русский Йорданс» — это эрмитажные «Апостолы Павел и Варнава в Листре», написанные совсем молодым художником, едва зачисленным в мастера гильдии Святого Луки, и в XVIII веке приписывавшиеся, как нетрудно догадаться, Рубенсу. «Деяния апостолов» рассказывают, что жители Листры приняли чудесных целителей Павла и Варнаву за богов, Юпитера и Меркурия, и собирались принести им жертвы, но апостолы вовремя пресекли языческие происки. Что Йорданс очень молод, заметно: в самый центр композиции он помещает не апостолов — они, разряженные в богатые ориентальные одежды и по-театральному красиво жестикулирующие, уступают сцену двум полуобнаженным слугам, готовящим жертвоприношение, так что зритель может сполна оценить и анатомические познания живописца, и почти орнаментальную игру мускулатуры, и ослепительный караваджистский свет, чуть смягченный прохладной атмосферой Севера. И хотя слуги-натурщики видны лишь со спины, в глаза бросается желание молодого мастера предъявить товар, то есть все свои умения, полученные в мастерской Адама ван Норта, среди учеников которого был, кстати, и Рубенс, лицом.
Этих «Апостолов» интересно сопоставить с пермским полотном на тот же сюжет, написанным 30 лет спустя: оно почти аналогично по размерам, но совершенно отличается — многофигурной и многословной композицией, дробными светом, невнятным колоритом и странной, маньеристской аффектацией. Его, естественно, в свое время тоже приписывали Рубенсу, но не за качество живописи, а скорее по инерции. Обе картины — отличный материал, чтобы сравнить собственноручного Йорданса, как в Эрмитаже, с Йордансом и мастерской, как в Перми, или порассуждать о том, какой Йорданс краше — юный нахальный караваджист или умудренный жизнью сочинитель сложных барочных машин. Однако тут возникает еще один важный подтекст: в поздней композиции ясно подчеркнут контраст между аскетизмом истинной веры, проповедуемой апостолами, и мелочной роскошью языческого идолопоклонства, в чем недвусмысленно прочитывается обидный намек на католиков. И это обстоятельство связывают с тем, что Йорданс, подпавший под религиозное влияние тестя, вначале тайно симпатизировал протестантам, а после и вовсе явно обратился в кальвинизм. Сидел себе в католическом Антверпене под бдительным оком испанских оккупантов, заваленный заказами от католических церквей, с которыми едва справлялась мастерская, а исповедовал и даже, судя по всему, проповедовал совсем другие идеи и ценности. И в этом поразительном двоемыслии, диссидентстве, в этой фиге в кармане пиджака заслуженного и народного художника он тоже, конечно, очень «русский Йорданс».