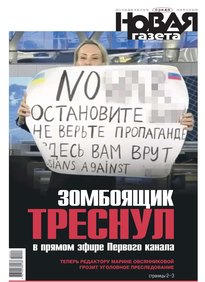— Обязательно, и не важно, где — на работе, дома, в кафе, — где угодно. Друзья, соседи, коллеги, однокурсники соберутся и попьют чаю в честь дня рождения фонда — получится такой длинный огромный общий виртуальный стол-встреча. Фотографии участников этого доброго веселого действа с хештегом « #безумноечаепитие» будут появляться в хронике «Фейсбука». Важно, чтобы на каждом столе вместе с угощениями к чаю была шапка или шкатулка…
— Шляпа, конечно, потому, что мы помним про Алису в Стране чудес… Но роль шляпы может исполнить и простая коробочка, в которую вы складываете пожертвования для наших подопечных. А потом кто-то либо идет в Сбербанк и переводит собранные деньги на счет фонда либо подходит к любому терминалу Qivi, где вы обычно платите за телефон, там есть специальное окно благотворительности. Еще проще: отправляете СМС на номер -6162 с суммой пожертвования в тексте. Помощь детям — лучший подарок в наш общий день рождения, — праздник всех, кто хоть раз помогал или только собирается помочь.
— 8 лет — серьезная дата. Само название «Подари жизнь» часто связывают именно с вашим именем, так и говорят: фонд Чулпан Хаматовой, что, наверное, формально неправильно, но, по сути, так и есть — вы же и сами уже не представляете себя по-другому.
— Не представляю… Был 8 лет назад один человек, а стал другим абсолютно. Если бы мне кто-то чисто теоретически сказал, что произойдет, — насколько мне проще станет жить, радостнее и счастливее, насколько стану умнее, я бы не поверила, даже прислушиваться не стала бы. Но я надеюсь, что стала умнее, мудрее, и, самое главное, мне легче жить, благодаря тому, что в моей жизни есть фонд «Подари жизнь», — сотрудники-друзья, дети, их родители, врачи, волонтеры. Как это было смешно, нелепо, что я этого не знала прежде и как я сама себя обкрадывала. Если бы это было раньше — я намного дольше была бы таким счастливым человеком. Конечно, я и раньше что-то такое делала эпизодически, но никто никогда не говорил мне, что ситуация может напрямую зависеть от меня. Это ощущение появилось после первого концерта, после собранных денег. Появилось, и была поставлена точка. Эта теорема больше доказательств не требует — она стала аксиомой.
— Я понимаю, когда речь идет о выздоровевших от тяжелой болезни детях, возможны только такие ощущения, как радость и счастье. Но ведь не все дети выздоравливают.
— Просто для меня изменилось вообще всё — понятия страдания, потери. Пришел бульдозер и вычерпал то, что было, и забросил совершенно другое. Есть большая разница между тем, что я только предполагаю, и тем, что знаю. А я теперь знаю, что такое отмеренный нам отрезок жизни, от кого зависит — какой он. Можно верить в то, что ты знаешь, а я, например, не знаю, что такое смерть, кто может объяснить? Никто этого не знает. И как это — верить в смерть? Я понимаю, что это не конец, потому, что у меня есть доказательства: любимые мои дети приходят в снах и наяву, я чувствую присутствие их в моей жизни. Я говорю про тех детей, которые были очень глубоко в сердце, перешли грань подопечных фонда и впущены были или сами туда пролезли… Но они стали частью меня, я не верю, что их больше нет. То, что ребенка нет физически, — я не могу его обнять, чмокнуть в ладошку или вдышаться в его головку, — мне от этого, конечно, очень плохо, но это — мои страдания и моя тоска, а не его. Для того чтобы поверить в его смерть, мне недостаточно знать, что душа связана только с сигналами в мозговой системе и больше ни с чем. И я не верю. Не потому, что так легче. Это — просто вот так. То условие, в котором я существую.
— Сегодня вылечивается 85—90 процентов детей, заболевших раком, и врачи говорят, что без помощи вашего фонда цифра была бы значительно ниже.
— Это так, но на фонде отражается все, каждый микроскопический чих людей, принимающих в стране решения. Мы такое зеркало: все, что происходит, — сразу попадает софитным ярким лучом в нас. Отсутствие квот, все реформы, падение рубля… Не на российские деньги фонд покупает лекарства, которые продаются за границей и не зарегистрированы у нас в стране. А пожертвования мы собираем в рублях…
Крик
— Вы сказали, вам легче стало жить с момента, как из теоремы получилась аксиома: от вас напрямую зависит положение больных детей. Отражается ли это каким-то образом на ваших ролях?
— Конечно, вот «Скрытая перспектива», спектакль в «Современнике», я, наверное, и не знала бы, про что играю. У меня роль журналистки, но на ее месте могла бы быть и артистка, и врач, и в принципе — не важно, кто. Главная тема, которая там звучит в набат: берет ли человек на себя ответственность поменять порядок вещей, который его не устраивает? Или он ее с себя сразу сбрасывает: да, плохо, но так живут все. Зависит от меня мироздание или нет — вот это главный вопрос, который для меня лично в этом спектакле существует.
— Я помню, там есть невероятно пронзительный момент, когда у вашей героини никого и ничего, по сути, не осталось. Никто не понимает ее «маниакальной» потребности ездить на войну. Даже любимый, который всегда прежде был с ней везде. Теперь он устал, изверился, не видит смысла такого самопожертвования. И теперь он живет с женщиной «от мира сего». Но ноги сами приводят его все-таки к вашей героине, как раз в момент, когда она, собираясь в очередную «горячую точку», не может застегнуть чемодан, как ни старается. Он это делает в доли секунды, обнимает ее и спрашивает: неужели же она и вправду верит, что от того, что будут опубликованы ее фотографии с войны, что-то изменится? И она говорит: «Верю».
— Иногда я говорю в этой роли: «Верю». А иногда: «Не знаю. Хочу верить». Пробую по-разному. Что делает героиню сложнее, она хочет верить или она точно это знает?.. Иногда мне кажется, что ее делает сложнее и тоньше, и от этого сильнее, — ответ «Не знаю». Когда ты стоишь на льду, ты не знаешь, треснет он или нет, но ты все-таки идешь по нему, — это намного сильнее характер, чем когда ты идешь, точно зная, что не провалишься. Я часто думаю: а знал ли Иисус Христос, что Он воскреснет? Мне все доказывают, что знал. А мне кажется, что намного сильнее и страшнее — это когда он на это надеялся, но не был в этом уверен. И все равно делал…
Вопрос стоит так: ты принимаешь несправедливость этого мира? Тогда ты становишься частью этой несправедливости. По-другому не получится. Либо ты что-то начинаешь делать. Вот сейчас, в наших днях, эта история с Доктором Лизой — она меня просто потрясает. Людям, которые ее осуждают, ничего не понятно без ценников и ярлыков, им без них неспокойно на душе. Человек, по их мнению, как я это понимаю, не может сидеть на двух стульях, он должен выбрать один, и перебегать с него на другой не имеет права, какая бы цена за этим ни стояла. Эти люди живут в двух измерениях, их можно только пожалеть, потому что пространство может быть настолько многомерным, что нам это постичь, возможно, и не удастся за всю жизнь.
Хорошо в тепле и уюте читать в «Фейсбуке» или в газете про Доктора Лизу. А представить условия, в которых она вывозила детей, ее волнения, ее работу на износ — нам сложно. Я знаю, что такое внезапное массовое осуждение, у меня был такой счастливый опыт. Страшно болезненный, катастрофически сказавшийся и на душевном, и на физическом здоровье, но я теперь совершенно по-другому смотрю на многое. Мне открылась не очень приятная правда, но я ее теперь знаю. Она в том, что не всегда те люди, которые говорят или даже настаивают на справедливости мироустройства, действительно, по-настоящему, этого хотят. По-настоящему они хотят только порядка вещей: это вверху, это внизу. А когда от вертикали вбок бегут параллели, им непонятно: а почему это так все тусуется? Оно же вот здесь должно быть! Но есть ценность жизни: если от меня зависит ее спасение, для меня совершенно не важно, вверху или внизу тот стул, на котором сидят те, кто помогает. Это мои такие ценности, я не смогу никогда в жизни кого-то переубедить в обратном. Но и меня никто не переубедит — я не смогу от своих ценностей убежать, даже если захочу.
— Черно-белое зрение передается детям, они сегодня уже тоже политизированы. Я получила по почте копию письма Обаме от 13-летней девочки. Она ему пишет: «Обама, ты негодяй! Ты — Гитлер!» Что с этим делать?
— Научить думать самостоятельно. У меня в школе был замечательный учитель математики, он всегда говорил: «Должно быть не одно решение задачи, а 10. Или 20». Школьникам я предлагаю отнестись ко всему, как к скульптуре Родена и Бернини. Ты не можешь смотреть эти творения только в фас или только в профиль. Ты должен обязательно обойти их со всех сторон. И вот только тогда, когда обойдешь эту… проблему, можешь делать свое умозаключение. Хотя вряд ли школьники прислушаются: у них такой возраст, когда все слова взрослых кажутся нудятиной. Мои дочки мне так и говорят: «Опять начинаешь нудный разговор…» Я для них — не норма, я — непонятно что, и они не понимают, как соотнестись с этим. Там где-то есть норма. В семьях, где, к примеру, есть телевизоры. А у нас его нет уже лет 10. И какая-то подружка сказала моей дочке, ученице 7-го класса, что такой-то сериал не знать — неприлично. Не буду называть этот сериал, но я честно посмотрела его. До конца не смогла. Потом, конечно, усадила дочь напротив и начала с ней прекрасную нудную беседу, чтобы разобраться, что такое прилично и неприлично. Беседа эта закончилась на повышенных тонах: она кричала, как я ей давлю на мозг, а я вдруг поймала себя на том, что тоже давно кричу.
— А про что кричали?
— Про то, что нельзя судить, не посмотрев минимум произведений искусства кинематографа. Минимум! И что вот только после этого пусть ко мне придет эта девочка или я к ней приду, я согласна. И мы поговорим о том, что такое прилично и неприлично. Ты не можешь говорить о том, что воздушный шар летает выше, чем ракета, только лишь потому, что ты ничего про эту ракету не знаешь. И стало мне стыдно. И я сказала: «Прости, пожалуйста, что я говорила на повышенных тонах». Я думала, что разговариваю со своим ребенком, а на самом деле, в этот момент разговаривала со всеми. С теми, кто работает на телевидении, и с теми, кто делает такие продукты. Им кричала про изменившийся мир кинематографа, про разговор с одним продюсером, который объяснил мне причины своих поступков словами: «Нерентабельно». Вот сочетание слов: «Нерентабельно произведение искусства» в моем сознании не монтируется никак. Я не говорю о том, что должен быть только артхауз, но то засилье халтуры в чистом виде, какое есть сейчас, — просто чудовищно. Я много лет играю Машу в «Трех сестрах», и вдруг мне стало страшно от того, как современно эта пьеса звучит. Бедный Чехов, наверное, когда он писал про торжество пошлости и посредственности, он втайне все-таки надеялся, что через 100—200 лет будет лучше… Три девочки с четырьмя иностранными языками и братом Андреем с его скрипкой, с отцом, который вложил в них все лучшее, — они и сегодня не нужны. Слова Наташи: «Велю, прежде всего, срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен… По вечерам он такой некрасивый», — они сегодня еще громче звучат. И есть фраза моей героини, которую я вдруг поняла только на последнем спектакле, играла прежде совершенно про другое. Она говорит: «Мой здесь? Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городового: мой. Мой здесь?» Марфа стала для Маши частью ее самости, она так резко обвиняла Наташу в пошлости, но сама заражена уже ею. И объясняется: «Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей…» Сама себя пытается оправдать в этом ужасе, в крахе, в этом падении совершенном, — страшно. И никто не виноват, и все виноваты — их поступки и не поступки, молчание, все вместе вдруг приводит к тому, что все вот так. Пала Бастилия под названием «Интеллигентный дом» с цветами, с тремя сестрами, скрипкой и итальянским языком.
И столько всего открывается — даже вот в таких спектаклях, которые уже давно созданы.
Мозг артиста
— Давайте представим, Чулпан, что вам исполнилось 80 лет. Фонд «Подари жизнь» продолжает работу?
— 80?! Ну… я очень надеюсь, что фонд продолжает работу.
— А медицина у нас уже лучшая в мире к этому времени?
— Тогда мы будем волонтерами — нет нужды собирать деньги, будем делать все остальное: будем с детьми в больнице, талантливой и веселой. Но это, к сожалению, утопия: нет такой страны, где бы все нуждающиеся в дорогостоящей, высокотехнологичной помощи получали ее от государства.
— А что вы к этому времени уже сыграли, какие ваши мечты исполнились?
— Я совершенно в этом смысле избалована. Как-то я так умудрилась, что не осталось ролей, которые я бы хотела сыграть и не сыграла. Потому, что когда-то давно поняла для себя, что в любой роли можно сыграть еще другую. Никто этого, возможно, не заметит, но ты знаешь, что играешь не совсем только эту роль.
— Например?
— Была у меня мечта юности — сыграть Кармен. Сейчас я играю в спектакле «Враги. История любви», где эта характерность буквально ложится на роль. Или вот Жанна д, Арк — пожалуйста, моя журналистка в «Скрытой перспективе». Таких вещей много: например, ту тему, которая мне была интересна в «Гамлете», я играю в своем спектакле «Час, когда в души идешь как в руки»… по произведениям Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. Здесь мое размытое импульсивно-ощущенческое понимание точки, в которую ты себя ставишь. Понимание, как ты дистанцируешься или примеряешься к несправедливости, злодейству вокруг себя.
Я не делаю этого специально, и Кармен, и Жанна д, Арк, и другие персонажи выходят из подсознания и прилепляются к сегодняшним ролям. Восьмой позвонок спинного мозга вдруг вспоминает — я думаю у людей всех творческих профессий наверняка происходит все так же. Может быть, у артистов в большей степени, потому что мы в более выгодных условиях, чем музыканты или писатели: у нас есть еще и измененная пластика, и общий вид, и реквизит. Иногда, после спектакля, когда я анализирую свою работу, вдруг понимаю, что не помню присутствия зрителей в какие-то моменты. Почему я чувствовала запах жареной курицы? Этого не могло просто быть. Каким образом я видела следы от мух на потолке? Какой там потолок — на сцене? Нет его. Это такие ощущения в момент игры на сцене — знаки абсолютно измененного сознания реальности. Если бы кто-нибудь задался целью вскрыть мозговую коробочку артиста: что там, какие кометы проносятся, что за ассоциации образов и где он в этот момент и сознанием, и телом?
Чтобы дно подавало
— Почему в Москве вы практически не показываете спектакль по мотивам произведений Цветаевой и Ахмадулиной?
— У меня нет задачи поставить его в репертуар театра: это такой спонтанно родившийся ребенок — спектакль, который совершенно по-другому звучит в провинции. Он замечательно прошел в Москве, но здесь у зрителей всегда есть выбор, что посмотреть. Может быть, от этого эмоции запрятаны, даже если не нравится — люди будут сидеть, тихонечко слушать, похлопывать и потом расходиться. В провинции же зрители бескомпромиссны, там бывают залы, где ты понимаешь, что сейчас умрешь. Если не нравится — ты слышишь, как они чуть ли не в конвульсиях бьются. А нравится — так градус радости, благодарности людей просто зашкаливают. Хотя поначалу это очень тяжелые залы: люди не готовы — у нас же есть города, куда вообще не доезжают серьезные произведения, где прокатчики ориентированы только на какую-то дешевую антрепризную комедию. И когда вдруг зрители понимают, на каком языке с ними готовы поговорить, — они на это уважительное доверие отвечают абсолютной готовностью включиться. И включаются, понимают сложнейшее произведение Цветаевой «Мать и музыка», помните: «…о, как мать торопилась с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джейн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним — без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, — и даже давила! — не давая улечься, умяться (нам — успокоиться), заливала и забивала с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание — как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь — самое ценное — для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним — нырок в сундук, где, оказывается, еще — всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало»... И зрители, удивительным образом, абсолютным каким-то слухом слышат здесь перекличку со «Сказкой о дожде» Беллы Ахмадулиной, где тема других матерей, которые «… в детеныше влюбленными зубами выщелкивали бога, словно блох». Где матери настраивают только на внешние успехи, финансовые ценности — это жизненная засуха, и Ахмадулина говорит от имени их детей: «Дождливость есть оплошность пустых небес. Ура! О пошлость, ты не подлость, ты лишь уют ума. От боли и от гнева ты нас спасешь потом. Целуем, королева, твой бархатный подол!»
Есть много деталей, которые также буквально перекликаются у двух разных поэтов, они, по сути, спрятаны в ткани всего этого месива спектакля, но зрители их находят, они мне говорят об этом, пишут письма — разборы.
— А что они вам пишут, можете зачитать фрагмент?
— Вот, например, из Уфы: «…Мучительное и пронзительное соло… И вот они уже втроем, не дробимы и заворачивают вокруг, вовлекая в этот вихрь, одна — говорящая, другая — молчащая, но из-под пальцев которой искры сыплются, и третья с посохом — волшебной палочкой, трубящий Гавриил…» Последнее — это про саксофон…» Наш спектакль состоит из трех участников, вместе со мной на сцене замечательные исполнительницы: саксофонистка Вероника Кожухарова и пианистка Полина Кондраткова. Там разная музыка — и современная, и классика: Моцарт, Бетховен, Рахманинов. То, что мы делаем, можно назвать миссионерством, мы немножко врачи в провинции, лечим. Вот еще нам пишут: «…Спасибо за содранную кожу, возможность самому себе исповедоваться, вынырнуть из потока, хватая воздух… Спектакль шел будто под звуком воды… Очень очистительный спектакль…»
Люди слышат даже микроскопические какие-то переклички. Например, у Цветаевой: «…рояль для меня навсегда отождествлен с водою», и у Ахмадулиной, которая как будто подхватывает, со своим дождем и с этой засухой, из которой не выбраться никому…
Слава для фонда
— И вот вам 80 лет, все-таки…
— Мне 80 лет… Я где-нибудь в деревне, у меня есть прекрасный домик, и мои руки в земле… Не знаю, что такое я делаю, может быть, даже выращиваю помидоры. На мне резиновые сапоги, и у меня много разных собак — и больших, и маленьких. Ко мне приезжают дети и внуки, мы сидим у камина, слушаем музыку, смотрим фильмы. Еще я путешествую по всему миру, а может, уже и по космосу. Чего у меня точно нет, так это работы. Никакой.
— Почему?
— Не знаю, сейчас мне это так видится. Я после 50 лет не буду работать, если, конечно, смогу чувствовать себя, хотя бы минимально, независимой от денег. Может быть, дети будут мне помогать. А я пойду делиться опытом с молодежью в театральную школу или кружок. Буду учиться у них, и учить их тем открытиям, которые были в моей театральной практике. Не в киношной, а именно в театральной, думаю, здесь я могла бы очень пригодиться.
Славу я прошла — это скучно и неинтересно. Пик славы у меня был в тот момент, когда я каталась на коньках в телевизионном шоу, — это была всенародная любовь…
— Вы серьезно, Чулпан? Вы же сыграли огромное количество интереснейших, запоминающихся ролей и в кино, и в театре, сколько их было?
— Я не считала, не знаю, думаю, что много. Но я серьезно: слава пришла ко мне, когда я встала на коньки. Потому что каждую субботу меня показывал телевизор. И я полгода мозолила зрителям глаза.
Слава сделала меня более полезной для фонда. Это очень много, но по большому счету это единственно ее положительная составляющая.