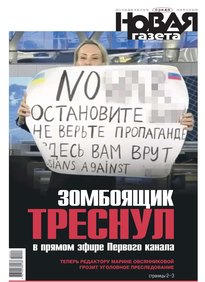Шевчука постигла катастрофа, гораздо более серьезная, чем БГ или Макаревича. Ко всем троим на концертах подходят поклонники с дежурной фразой «Я вырос на ваших песнях», и вот в один прекрасный момент смотришь в окно и видишь, что эти выросшие на песнях сделали со страной. Тридцать лет пели «Не стреляй!» и «Пока горит свеча», а не смогли совладать ни с ненавистью, ни с войной, ни с тотальной ложью. Все проповеди добра и любви — как об стену горох, разве нет?
У Шевчука положение серьезней вдвойне. Это именно его аудиторию пытается присвоить себе официальная пропаганда. Это у него в каждой второй песне — Россия, брат, правда, справедливость и другие слова-сигналы. На концертах физически чувствуешь, как за этой музыкой встает образ огромной страны, перетерпевшей войну, несгибаемой, мощной, втоптанной в грязь, но в конце концов все равно вставшей с колен. «ДДТ» — действительно народная группа.
У их поклонников открытые лица, прямой взгляд. Это люди, способные на поступок. Не девочки с красными волосами и пирсингом, которые ходят на концерты Земфиры. Не постаревшие хиппи с мудрым прищуром, слушающие Гребенщикова.
Никаких фриков — соль земли. Честные ребята, цельные натуры, они знают, что сила в правде, остро реагируют на слово «наши» и не бросают своих. Могут построить дом или электростанцию, а могут и автомат в руки взять.
Когда началась украинская война, Шевчук чуть ли не в каждом интервью говорил, что надо выдержать паузу, помолчать, не усугублять зла. Шли концерты, писались песни, но было ощущение, что он ушел в тень. И вот теперь ему предстоит отбить свою аудиторию, доказать, что фраза «Наполним небо добротой» из старой песни — работает.
Ради того и была создана программа «История звука», с которой они уже несколько месяцев ездят по стране, а сейчас доехали до Москвы. Шевчук собрал больше тридцати песен, начиная с хитов ранних восьмидесятых и до самых недавних вещей. «Последняя осень», «Родина», «Революция», «Просвистела»… С одной стороны, ретроспекция, взгляд назад. С другой — мощное оружие, символ веры. Доказательство того, что абстрактный гуманизм, в котором его часто упрекают, — не абстракция, а реальная сила.
И вот «Олимпийский». Огромное пространство между Часовней Просветителей земли Сибирской и Соборной мечетью заполнено людьми до отказа. Давка, везде полиция, площадка перед спорткомплексом закрыта металлическими заграждениями, внутрь не пускают. Кто-то время от времени запевает: «Это все, что останется после меня», по рукам ходит фляжка с коньяком. Парень лет двадцати с лицом, как вырубленным из дерева, говорит:
— Я бы на Цоя сходил. И еще на Летова.
Но на Цоя и Летова уже не сходишь, они мертвы, а на Шевчука можно.
Пошел дождь, кто-то сказал, махнув рукой в сторону охраны:
— Сметем их к чертовой матери!
И это не пустая угроза, они могут, они чувствуют себя силой.
Я вошел в зал на песне «Милиционер в рок-клубе» и почувствовал, что с 1985 года мало что изменилось. Другая униформа, нету уже лимитчиков, а смысл тот же: «Я сам-то тамбовский, на очередь встал, Я бы тоже, быть может, вам здесь сплясал, Да лимит, понимаешь, еще год трубить, Дружба — дружбой, а служба — службой!» Никто никому не враг, просто так получилось: одни в форме, другие пляшут.
Шевчук нон-стопом в формате попурри исполняет «Конвейер», «Мальчиков-мажоров», «Мама, я любера люблю». На огромном экране над сценой проносятся советские «Волги»-членовозы, которых давно уже нет, но есть зато депутаты с их мигалками, и в этом смысле опять мало что изменилось. Да и мальчики-мажоры никуда не делись. Их стало даже больше. Высокопоставленный папаша, как поет Шевчук, по-прежнему исполнит любой сыночка каприз.
Хроника 1980-х: любера на экране бьются с байкерами. Где-то там, в глубине кадра — Саша Хирург. Его ребята охраняли тогда рок-концерты и вообще всячески защищали неформалов от гопоты. Их воспринимали как больших добрых парней на стороне прогресса и демократии. Хорошая перестроечная история.
Никто и представить не мог, что через тридцать лет байкеры Хирурга будут и сами мало отличаться от люберов.
Все главное было сказано уже тогда. И про несправедливость добра, и про войну: «Чем ближе к смерти, тем чище люди, чем дальше в тыл, тем жирней генералы. Здесь я видел, что, может быть, будет с Москвой, Украиной, Уралом».
Середина девяностых, Чечня. Откуда в голове Шевчука возникло слово «Украина», понять невозможно, но оно возникло уже тогда.
Конечно, стадионный концерт — это не про слова, а про энергию. Про звук, который сносит с ног, светящиеся экраны телефонов над головой, зажигательные танцы Юрия Юлиановича на краю сцены и пение хором «Последней осени».
У него удивительно молодой голос. Представление о хриплом, разрывающем душу поэте в бороде и очках ушло в прошлое. На экране он голый по пояс, потный, бьющийся за правду из последних сил. Надрыв, надрыв, надрыв… А на сцене подтянутый мужчина в свитере и джинсах, улыбается, не хрипит, но ощущение, что он с кем-то бьется, никуда не исчезло.
— Ну что, Москва, питерские вас не достали еще? — спрашивает Шевчук. — Питерские разные бывают, мы — хорошие.
И запевает «Весну», которая во всем виновата: «И боимся все мы, что дойдем до войны…» Дошли, как и было сказано. Эта война в жизни Шевчука не первая и не вторая. Еще в начале восьмидесятых его буквально пронзили рассказы об Афгане. Были две Чеченские, Осетия и вот теперь Украина. Такое ощущение, что мы все время воюем. Вроде бы мир, а на самом деле война.
«Всегда весна, блин, виновата», — говорит он. Весна кружит голову. Можно влюбиться, стихи написать, а можно взять калашников — и вперед. Сил много, голова кружится.
Есть у него еще одна песня про это славное время года — «Русская весна», написанная совсем недавно. Ее ошибочно считают заукраинской, об Украине в тексте ни слова:
Что в твоем окне, что в твоем окне
Там надул пузырь ветер-нашатырь
Двери в магазин, толпы Лен и Зин
Пьяные бомжи, чахлая сосна
Русская весна — как похмелье. На экране длинная череда надгробий, на каждом фамилия, годы жизни и короткое слово — «расстрелян». Мелькает горящий Белый дом 1993-го, камни летят в омоновские щиты, а следом — побоище на Болотной 6 мая. Тоже весна, тоже русская.
Главная песня — «Предчувствие гражданской войны», которой так и не случилось, а может, все это и было гражданской войной, просто мы ее не заметили. Песня написана в ночь после похорон Башлачева в феврале 1988-го. «Когда национальность голосует за кровь…», поет Шевчук, и это звучит так, как будто написано только что.
В тридцатилетней гражданской войне он так и не встал ни на чью сторону. Как Волошин в Крыму 1919 года, который молился за тех и за других. Пока правда идет на правду, как поется в его песне, он пытается говорить о любви и произносит страшное слово «вместе». Нам еще в начале 1990-х вдолбили, что вместе можно собираться только ради чего-то очень плохого. А Шевчук по-прежнему верит, что можно и ради хорошего. Есть в этом что-то трогательно советское, давно устаревшее. Сразу веет первомайскими демонстрациями и пионерскими лагерями. Но одна из задач Шевчука — отбить у официоза наше прошлое, попытаться очеловечить его. Об этом в новой песне «Я ценю твое мужество заваривать чай»: «Наше прошлое в нас, не перебить соплей, Но как-то нужно мириться со всей Землей».
Где-то на 2000 году видеохроника обрывается и начинается видеоарт — компьютерные зарисовки, переливающиеся технократические узоры. Как будто страна потеряла почву под ногами. История закончилась, реальность стала неосязаемой.
На протяжении всего концерта он несколько раз повторяет: «Жизнь продолжается, жизнь продолжается». Словно уговаривает нас и себя.
На бис играют «Родину» и «Это все». «Мира Украине, мира России, мира всем», — говорит Шевчук. Люди, чуть потолпившись в фойе, расходятся каждый своей дорогой, как будто и не было никакого концерта. Есть очень слабый шанс, что завтра, послезавтра, через месяц, когда надо будет принимать решения и совершать поступки, они вспомнят слова Шевчука про мир. Шанс слабый, но все же он есть.