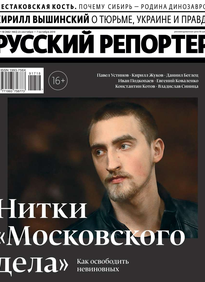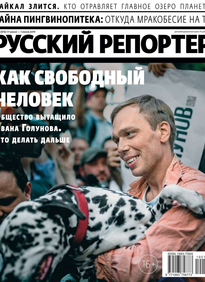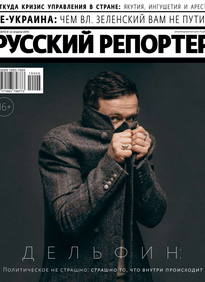ТОП 10 лучших статей российской прессы за April 16, 2015
Как мы верим
Автор: Юлия Гутова, Ольга Тимофеева, Виталий Лейбин. Русский репортер
Не так давно большинство людей получало веру просто по факту рождения в семье, общине или государстве — в виде приверженности массовым идеологиям. Сейчас, как правило, есть выбор — верить во что-то или нет. Но индивидуальный выбор — это дело личной ответственности, и оттого вопрос о вере и предельной картине мира стал для личности еще более важен. Огромное количество людей интересуется духовными вопросами, но формы этого интереса разнообразны. Давно не уменьшается число приверженцев традиционных религий, в целом в мире даже наметился их рост. Вместе с тем появляются суперсовременные, возможные только в крайне индивидуалистическом обществе пути религиозного поиска. «РР» на ярких примерах изучил три таких радикальных пути — новое монашество (выбор духовной практики из всего набора, предоставляемого глобальным миром), новое рыцарство (когда благополучный горожанин уходит воевать за свою веру) и новый традиционализм (когда человек выбирает возвращение к истокам своей культуры)
Новое монашество
В традиционном обществе люди, которые всецело концентрировались на духовных и религиозных практиках, были либо радикальным меньшинством (основатели сект, религий, отшельники), либо замкнутым сословием (колдуны, жрецы, монахи). Индустриальная эпоха сломала границы сословий, создав массовые технологии социального равенства, снизила загадочный авторитет мистик, путей духовного самосовершенствования. В нашу эпоху секреты религий всего мира кажутся столь же доступными, как и массовое светское образование, а их выбор стал проще — современный человек оказывается как бы в некоем супермаркете «духовных практик».
— Я вообще увлекаюсь религиями, — говорит Валя и отпивает из маленькой чашечки хорошо заваренный чай с мятой. — У меня чередуется. Могу месяц увлекаться христианством. Месяц — исламом. Потом, там, каким-нибудь кашмирским шиваизмом.
На полке у Вали над головой ряды книг: про христианский аскетический опыт, про святых отцов, про осознанное дыхание, про идеологию индуизма.
— Я такой человек, увлекающийся. Пообщаюсь с друзьями-христианами, схожу в церковь, меня все это и захватывает. Но тем не менее я понимаю, что смысла мне особенно увлекаться и вдаваться в это нет. Потому что я прекрасно понимаю, что это просто разные культуры, разные идеи и смыслы. А что верно только это, а остальное ложное — в такое я никогда поверить не могу. В этом смысле, наверное, у меня рациональный подход. Я не способна «залипнуть», потому что у меня в любом случае шире мировоззрение, чем одна религия. Я практикую тхеравадинский буддизм. Это ранний буддизм, который не берет никаких наносных сложных техник, он основывается на минималистичном учении о работе с вниманием. Я практикую медитацию випассану. Можно сказать, это отстраненное наблюдение, созерцание любых содержаний, которые ненамеренно возникают в нашем уме в процессе медитации, не буду описывать подробно. Практика происходит в том числе на ретритах, когда медитируют много дней подряд. После такого ретрита человек, как правило, сильно меняется. Происходит встреча с собой. С реальностью.
Сегодня у Вали был тяжелый насыщенный день. Она очень спокойно смотрит мне прямо в глаза, а маленькая мышца у нее на правой щеке время от времени мелко дергается.
— Как изменилась ты?
— Появляется четкая внутренняя опора, возможность ориентироваться на свою глубинную, интуитивную часть. Постепенно я благодаря этому стала перестраивать свою жизнь. Мне у-ужасно нравится все, что я делаю, меняю! Я постепенно бросила всю свою работу, которой занималась раньше. Я десять лет проработала клиническим психологом с детьми-аутистами и шизофрениками и с их семьями. Мне очень нравилась моя работа. Но я реально за годы успела посмотреть на людей, которые занимаются этой темой. Подумала: вот доживу я до старости и буду специалист по аутизму. Мне кажется, эта самоидентификация — слишком чуждое, искусственное и внешнее. Я для себя во многом исчерпала эту деятельность, для меня в ней новых вызовов не содержится. Я решила поменять свою жизнь на что-нибудь такое… Высвободить голову от всего наносного, что не связано с моими собственными интересами, идеями. Чтобы я не по пошаговому плану, а более гибко и открыто могла дальше жить. Это был уход от своей жизни. У меня при этом за скобками оставалась куча моих собственных нереализованных мыслей, желаний, сторон, способностей. Тем более что я работала в государственном центре. Там вся ориентация на формализм. Побольше обслужить клиентов и чтоб все были довольны. То, что я практикую, дает возможность почувствовать себя вне бесконечного давления социальных стереотипов, ожиданий. Представления о роли женщины, о семье, например, довлеют мощно.
— От них ты тоже избавилась?
— Развелась с мужем! — Валя смеется. — Просто я решила, что мне это сейчас не очень интересно — заниматься семейной жизнью, тем более воспитанием детей, с которыми я провела десять лет, непрерывно общаясь. Я хорошо знаю жизнь семей с детьми… и все это меня совершенно не привлекает. Хотя я очень люблю детей. Такая эмоциональная тяга, женская, у меня всегда была. Но я как-то сознательно преодолела это на данном этапе своей жизни. А ведь я считала себя семейнейшим человеком. С такими очень стандартными ценностями. Что я все, на всю жизнь, — смеется. — Все мысли, ценности, все — семья, дом, я так это все любила! Но постепенно я стала ощущать, что позитива, который я получаю от брака, становится гораздо меньше, чем таких издерживающих… фактов, которые превращаются для меня скорее в тяжкий груз. В первую очередь, эта давящая предсказуемость. Закрытость абсолютная других возможностей самоопределения, она… для меня была не очень приятна.
— Что же ты делаешь сейчас?
— Я работаю преподавателем йоги, веду групповые и индивидуальные занятия. И еще я сейчас перевожу книгу по йоге, с английского и санскрита, потому что я еще изучаю санскрит, мне это очень интересно. Гораздо мне стало легче, радостнее. Та я, которая была тогда, она совсем другая, чем я сейчас. И мы довольно-таки отделены друг от друга.
Пол в Валиной квартире чистый, на нем ничего не лежит. Валя ставит собачку на пол, и та как ни в чем не бывало начинает ласкаться, виляя хвостом. Собачку зовут Мини. Потому что сначала хотели такую же, только большую, а пришлось завести маленькую. Когда у Вали был кот, его так и звали — Кот.
— У меня естественно ориентированное, научное сознание. У меня оно с детства, тем более что в университете, на психфаке МГУ, у нас первые два года давалось базовое естественно-научное образование. Для меня другой способ мыслить невозможен, кроме как опираться на рациональное осмысление действительности. Поэтому мистические системы с развернутой метафизикой я принять полностью не могу никак, и не смогу никогда. Буддизм мне нравится тем, что он с наукой абсолютно сочетается. Когда я ехала на первый ретрит, я точно знала, что это конкретная работающая практика, мы занимаемся медитацией и ни во что не надо будет специально верить, никаких не внушается идей. Там, на первом ретирите, ценность молчания для меня стала удивительной вещью и открытием. Когда ты в течение недели стараешься вообще не соприкасаться ни с какой речью, ничего не читая, почти не говоря, не слыша, большую часть времени с закрытыми глазами. Потому что у нас, жителей города, такая погруженность в слова. В потоки слов, в идеи. Тут поднимается все изнутри!
— А какой он, опыт встречи с реальностью?
— Как это описать? Вот еще я занимаюсь скалолазанием. В скалолазании есть такой этот момент висения, когда вот ты, вот камень, и вся твоя жизнь в этом моменте.
— От чего ты избавилась, кроме работы и семьи?
— Ха-ха! — спокойно и весело смеется Валя. — Стараюсь избавиться от всего. Вообще удовлетворение, максимальное, получаешь не от приобретения, а от избавления. У меня есть значительные привязки к своему дому, к жизни в этом месте в Москве. Я стараюсь это осознавать и думаю, что потенциально хорошо бы стать более гибкой в этих вопросах. И про интернетизацию. То, где мы находимся, уже теряет значение. Потому что мы перемещаемся уже в свои внутрисетевые дома. И чувствуем себя дома, войдя в свою сеть… И там тоже есть новые возможности для духовной практики. Привязанность к месту уже не так важна.
— Привязанность — это плохо?
— Привязанность и привязка — это несвобода. Любой духовный путь связан с отречением. От обычного материального мира, от каких-то материалистических интересов.
— Это какое-то монашество, но без выхода из общества.
— Для меня самой пока до конца не ясно, не является ли это просто промежуточным этапом, который в итоге ведет, там, к уходу от мира. Потому что по опыту знакомых людей я вижу, что часто это приводит людей в монастырь.
В зале для йоги гудит «оммм».
— Все тело тяжелое… Теплое… — говорит Валя очень четко и громко. В комнате приглушенный свет, а на полу лежат, разной длины и объемов, тела мужчин и женщин, которые пришли на занятие по йоге. Тела с ногами в носках и без лежат на ковриках или укрытые шерстяными одеялами, такими, какие выдают в поездах дальнего следования. Валя продолжает медленно, четко говорить:
— Все тело распластано по полу… Челюсть слегка приоткрывается… Волна расслабления проходит по всему телу.
За спиной у Вали на стене большое изображение индуистского бога Ганеши — очень нарядный слон с несколькими парами рук. А люди, которые пришли на занятие по йоге на третий этаж торгово-развлекательного центра, выполняют шавасану, расслабляющую асану йоги.
Новое рыцарство
В древности война было общим делом, делом всей общины, потом оно на тысячелетия стало сословным или профессиональным. В индустриальную эпоху, в эпоху тотальной мобилизации ХХ века, война снова стала всеобщей. Европейская цивилизация после 1945 года сделала многое, чтобы тотальные индустриальные войны больше не повторились. Мир европейского человека стал более безопасным, но и менее настоящим, слишком виртуальным, потребительским, лишенным героического смыла. Отсюда еще один суперсовременный тренд — война как личный выбор индивидуалистического городского человека. Война на Украине сделала ополченчество близким и массовым, но и во всех, казалось бы, благополучных европейских больших городах массово проявляются военные-индивидуалисты, восстающие за некие традиции, религии. Растет индивидуальный террор, и на Украине такие люди воюют за обе стороны. Это уже не старые войны, где воевали страны, — теперь воюют за личную веру.
Бородатый блондин Егор, весь в хаки, пьет из большой красной кружки пакетированный чай. И подкручивается на стуле-вертушке посреди большого склада. Там и тут коробки с гуманитарной помощью, которые ждут доставки на Донбасс. На куртке медаль, Егор участвовал в боях за Донецк и в поселке Спартак.
— Я просто москвич, — говорит Егор и поправляет хвостик от чайного пакетика. — У меня бизнес был, две газели. На одной работал сам, на второй — наемный водитель. Я даже в армии не служил. Учиться попробовал, в авиационном техникуме, на вечернем, — не понравилось. Работал на заводе. Потом на другом заводе. У меня куча специальностей, в том числе обойщик мягкой мебели, станочник широкого профиля… Ха-ха! Экспедитор, грузчик, перепробовал много. У меня две дочери, я воспитываю их один. Жену выгнал… Семнадцать лет назад. Ну, потому что она у меня была, скажем так, гулящая. Детей растить было сложно. Теперь моей старшей почти двадцать, младшей скоро восемнадцать. Я неплохо зарабатывал, сам построил дом.
— Как же вас занесло в военную тему?
— Я сначала занимался страйкболом. Это хороший отдых — побегать на свежем воздухе. Мне нравится тактику изучать, кого-то перехитрить, победить. А потом я с Игорем Стрелковым занялся исторической реконструкцией. Но участвовал именно в Великой Отечественной войне. Может быть, я чувствую, что это великий подвиг, не знаю. Никогда не надевал немецкую форму. Я вот только за наших. И там же многие из клуба… Например, Григорий Чуков, он сам прошел две войны в качестве спасателя, в Грозном в девяносто пятом году на белых КАМАЗах вывозил мирное население под огнем. У него там такой иконостас орденов. Для меня этот человек уважаем настолько, что представить невозможно. И не один он там такой. Я в принципе чувствовал себя немножко уязвленным на их фоне. Потому что они герои. А я даже в армии не служил. Стыдно! Ужас-но стыдно! Стыдно, вы не представляете как! Потому что поставьте ветерана и поставьте рядом человека, который считает себя мужиком. Но ничего не сделал, ни для Родины, ни для… В общем, ни для чего. Я снова туда рвусь, на Донбасс. Просто пока некого вместо себя на складе оставить, я его организовал, этот склад, и он нужен сейчас. А так я еще рассчитываю при своем участии закончить эту войну. В моем понимании, когда враг стоит у порога, каждый должен оставить свою мышиную возню, — говорит Егор и поправляет хвостик от чайного пакетика. — Под мышиной возней я понимаю то, что ценится. Если у тебя нет пятого айфона — ты лошара.
— Да ну.
— Общество — оно воспринимает так. Вот еду я раньше на газели, и ее, знаете, кто только не подрезает! Даже тот, кто едет на жигулях. Оно есть — презрительное отношение к рабочему человеку. Это такие тонкие вещи, которые многие в общем-то, может быть, и не замечают. Но я от рождения, как говорил Джорж Карлин, имею плохую привычку: thinking! Ну, думалка, если по-русски. Умею я ею пользоваться.
— Почему вы носите военную форму? Вы же в Москве, а не на войне.
— Да она… Мне просто нравится, и удобно.
— А когда вы ходите в форме, какое отношение общества к себе ощущаете?
— Ну, интереса больше стало. Интереса не к моей персоне, а именно к форме. То есть «идет человек в форме». «Даже с медалью». Вот. Некоторые подходят обниматься, когда видят, что я был в Новороссии, — это люди с Донбасса. Некоторые местные большие пальцы показывают. Что молодца!
— Что такое, по-вашему, духовный рост?
— Думаю, это моменты, когда преодолеваешь себя, свои недостатки, свой страх.
— В мирной жизни вам приходилось преодолевать свой страх?
— Возьмем такой пример, хорошо. Я был наемным работником, на газели работал с диспетчером. Она мне давала заказы, я ей платил проценты. А когда у нее не стало работы, мне пришлось выбирать. Было о-очень страшно! Пускаться в свободное плавание, не имея за душой практически ничего, кроме машины. Ни связей, ни друзей, которые могли бы вытащить. Был у меня один клиент, который делал заказы раз в неделю. Бабушка пенсию получала и так далее, то есть как-то держались. Я принял решение. О-очень страшно было. Ну вот о-о-очень! То есть реально, была неуверенность такая, когда ты один на один с этим миром! И… Вот оно — вложение смелости. И такое же решение я принял, когда поехал на Донбасс. Мне тоже было очень страшно. И оставлять детей мне было очень страшно! Потому что, ну, с младшей еще ладно, она в любой ситуации пробьется, добротой своей, улыбкой. А старшая — она такой цветочек у меня. Комнатный. На мороз не выносить… Страшно! Но принимается решение, и страх надо побороть. Вот, пожалуйста, вам реализация чувства по имени Страх. И реализация чувства по имени Ответственность. Потому что если дети всегда живут с родителями, они никогда не становятся взрослыми.
— Не страшнее ли было на самой войне?
— Там от того, что каждый момент может стать последним, очень остро чувствуешь жизнь. Но вот что интересно: я перед тем как поехать туда, посетил два храма и получил благословление. Я… в церкви был крайний раз в шестнадцать лет, когда меня крестили. А тут я получил благословление, потому что это надо. Я чувствовал просто, что это надо. И мне прихожане дали иконки, я их, собственно, до сих пор ношу, эти иконки. Вот молитвослов, Иоанн Воин, и триптих, в кармане формы. Это мне помогало преодолеть страх. Я туда ехал с мыслью, что меня могут убить. И я это знаю. Но я ехал с верой, что люди, умершие за родину… не умирают насовсем. И не может быть ничего почетнее, чем умереть, сражаясь за родину против фашизма. Я бы не пошел воевать против бандитов. Потому что на это есть полиция, есть армия. Но воевать против фашизма я считаю своим долгом. Хоть я и мирный человек. Я сам вырастил двоих детей, и когда я увидел кроху, валяющуюся обожженной на траве рядом со своей мамой… мой внутренний болевой порог был пересечен. Все, я должен был туда поехать. Я должен был уничтожить этих гадов, которые убивают детей. Тут дело в моих собственных ценностях.
Новый традиционализм
Это парадокс: с одной стороны, традиция, с другой — новая. Как так? Но это ситуация огромного количества современных людей. Впервые за всю человеческую историю почти никто, по крайней мере в модернизированной части мира, включая нас, социально не зависит от своей традиции, общины, веры отцов. Более того, разрушились или разрушаются и светские веры ХХ века — национализмы, коммунизм, теперь — демократия. Впервые обратиться к своей вере можно не в строю общества и масс, а индивидуально, в пределе — лично. И многие предпочитают не выбирать ее из набора мировых религий и сект, а вернуться к традициям своей культуры. Истоки могут быть разные — мусульманство, иудаизм, буддизм, христианство, — но «свои». Причем строить их приходится, в общем, заново.
В то сказочное время, когда в небе быстро убавляют яркость и на темнеющем фоне резко проступают фонари, Матвей и Настя Берхины выходят с детьми из Лефортовского парка и ждут трамвай №52. Дети устали и ведут себя тихо. Ванечка — год и четыре месяца — молча смотрит на мир из коляски. Тишка — три с половиной — грызет мягкий край лаваша, роняет его на землю, поднимает и снова грызет. И только Анечка — пять с половиной — ведет осмысленные беседы с родителями.
Настя следит за передвижениями номера 52 через смартфон, и через несколько минут он появляется в реальном мире. Забраться в трамвай с тремя детьми, коляской и велосипедом — целый квест, и водитель, понимая это, открывает дверь без турникета. Пассажиры холодно поглядывают на семью, а когда папа, к восторгу Ванечки, ведет его через весь трамвай к задней площадке, водитель ругается: чтобы папа Ванечку больше так не водил. Папа слушается.
Трамвай останавливается прямо напротив дома, семья выгружается, переходит дорогу, заходит в подъезд, заполняет грузовой лифт, поднимается на свой этаж и наконец оказывается дома. Все, кто молчал на улице, сразу начинают кричать.
— А-а-а-а! — требует маленький Ванечка, сидя в высоком детском стульчике у кухонного стола.
— Он уже понял, что если не кричать, его никто не услышит, — объясняет Настя.
Родители выставляют на стол все, что полагается в пост: картошку в фольге, винегрет, квашеную капусту.
— Ты что будешь, картошку или… — пытается узнать у Тишки папа, но его перекрикивают.
— Я во-ду, во-ду, во-ду! — кричит Анечка. — Или яблоко поем!
— Пап, пап! — кричит Тишка.
— Мам! Мам! — кричит Анечка. — Я не хочу! Я наелась!
Пользуясь случаем, Ванечка забирается на стол и колотит чашкой по тарелке. Чашку у Ванечки не отбирают. Наверное, когда в семье трое маленьких детей, это непринципиально.
Над столом висят три рисунка Анечки. На холодильнике — ранний рисунок углем: Матвей и Настя в юности, шесть лет назад. С другой стороны — более поздняя фотография: Матвей и Настя, Анечка и Тиша. Раз в год они делают один хороший кадр. Получаются вехи: до детей, с одним ребенком, с двумя, с тремя.
После ужина старшие дети убегают смотреть мультфильмы. Настя хочет заварить чай, но не может найти чайник. Вместе с Матвеем они вспоминают, есть ли у них другой, взамен того, что недавно разбился.
— Мы же купили кофе-пресс! — вспоминает Матвей.
— Да-а-а… — рассеянно соглашается Настя. — Куда же мы его дели?
Они смущаются.
— У вас есть время вечером попить чай, когда дети уже спят?
— Тот чайник, который мы грохнули, нам подарила наша крестная специально для этой цели. Говорит, когда детей уложите спать, заваривайте этот чайник — будете общаться, — говорит Матвей, и Настя смеется:
— Мы уже давно перешли на пакетики!
Кажется, свободного вечера у них давно не было.
Но чайник все-таки нашелся, чай был заварен, и чаепитие состоялось, несмотря ни на что.
Честно говоря, две православные семьи до Матвея и Насти нам отказали — по уважительной причине. Люди говорили, что в этом году очень тяжелая Страстная неделя, потому что Благовещение приходится на вторник. Так бывает редко, когда ранняя Пасха.
Матвей и Настя соглашаются.
— Ну, это вы нашли наименее православную семью! — смеются они.
— А что значит быть православной семьей?
Матвей сидит, умостившись между высоким детским стульчиком, столом и окном, сдвинув коленки и занимая совсем немного места в пространстве кухни.
— Ну это, мне кажется, не дискретное православие для православных, это какой-то… континуум.
По образованию Матвей инженер, но эти слова пристали к нему в магистратуре по психологии. Настя тоже инженер, но после рождения первого же ребенка ее «развернуло на педагогику».
— Мне кажется, тут есть два значения, — продолжает Матвей. — Если правильное понимание: кто правильно живет, тот и православный. Тот православный, для кого Евангелие — основа жизни в первую очередь. А вторая сторона — это приобщенность к этой обрядовой жизни, традиционной, которая для меня в большей степени спорна. Ну или неоднозначна.
— Па-а-ап! Пап! — кричит Ванечка.
— Открыть хочешь? Давай откроем. А тут пусто.
Ванечка успокаивается.
— Что значит быть православной семьей? — передает Матвей вопрос Насте, и он повисает в воздухе.
Наступает тишина.
— Да, но если обрядовость — только форма, то есть и содержание?
— Да! — выкрикивает Матвей. — Наверное! Ограничивать себя обрядовой стороной — это одно. А если говорить о православии как об ориентации на Евангелие, таком серьезном, глубоком и осмысленном, то это путь, на котором нет предела. Как сказать себе: «Да, я уже достаточно православный»? Вот в чем сложность! Можно сказать: «Да, мы православная семья, потому что мы постимся, ходим в храм и слушаем радио “Радонеж”». Но это, по моему мнению, не совсем то. А если сказать: «Да, мы православная семья, потому что Евангелие для нас — самое главное». То есть мы православная семья, потому что мы святые в конечном итоге? Кто может это о себе сказать? Поэтому вопрос, конечно, сложный.
— А разве быть православным — значит быть святым?
— В смысле, что если мы православная семья, Евангелие для нас — самое главное и составляет основу жизни, то это бесконечный путь, и ты никогда не сможешь сказать: «Да, я этого достиг». Ты можешь сказать: «Я в пути».
Дедушка и бабушка у Матвея не были верующими. Он с мамой и братьями стали первохристианами в своей семье. В семье у Насти тоже не было религиозной традиции. И хотя ее родители называют себя верующими в душе, первой в храм пришла Настя. В конце первого курса вуза Настя пошла в театральную студию и познакомилась там с Матвеем. В этой студии был и миссионер Миша Яковлев. Настя спросила у него, что и как, и с тех пор он стал ее подталкивать: «Настя, ну ты когда креститься-то придешь?»
— На каникулах я пришла в храм в первый раз, а там как раз алтарничал Матвей! Он мне подготовил купель. Наносил воды, как алтарник, подготовил крестины, не зная, что я буду креститься!
— Вы не знали, что будете его женой?
— Нет, конечно!
Современный человек не рожден внутри веры, его выбор не предопределен. Два-три поколения назад самой распространенной системой взглядов в нашей стране был атеизм. Православие было прошлым, православие было тенью. Почему эти молодые люди выбрали именно его? Предпочли всем философским системам? Не увлеклись чем-то новым?
— У меня не было сомнений, — удивляется Настя. — У меня был один пункт выбора. Мне как-то даже не приходило в голову ничего кроме. Все остальное не было для меня настолько сокровенным, особенным. Не могу сказать почему. Может быть, все-таки то, что родители, как они говорят, верили в душе? И все равно праздновали Пасху и Рождество?
— Для меня тоже вопрос религиозных поисков никогда не стоял, — говорит Матвей. — У меня родилась такая аналогия, как с женой. Почему я люблю свою жену? Не потому, что она самая прекрасная на свете женщина. Я не могу перезнакомиться со всеми на свете женщинами, чтобы узнать, какая из них самая прекрасная. Просто это моя жена. Она изначально — моя.
— Какое-то собственничество в этом звучит.
— Нет-нет, не в смысле собственничества! Это звучит патетично, но еще ассоциация — как русский язык. Может быть, есть более красивые языки, на которых я поговорил бы с великими поэтами. Но так я родился, русский язык — мой родной. Может, у меня склад характера такой, но у меня нет мысли о том, чтобы попробовать все и найти лучшее. Я знаю, что есть мое, и этим доволен.
Все это время Матвей и Настя ходят в один и тот же храм Ильи Пророка на Ильинке. Он маленький, и его можно не заметить, проходя по улице.
— Насколько глубоко вы включены в церковную жизнь?
— Не так глубоко, как хотелось бы. Дети полностью забирают время. То есть это уже совершенно другая жизнь, не та, которая была до детей. И поначалу меня очень сильно огорчало, что нет возможности присутствовать на всех службах, даже на значимых.
С тремя маленькими детьми стоять на службе нереально, а оставить их не с кем. Но у детей есть крестная, и она обещала отпустить Настю на одну службу перед Пасхой.
В соседней комнате Тиша и Аня смотрят мультфильмы, а рядом Ванечка сосредоточенно исчерчивает бумагу карандашом. Временное затишье, когда слышен шорох карандаша по бумаге. Ших-ших, ших-ших, ших-ших, ших. Тук-тук! — карандаш превращается в молоток.
— А сколько детей должно быть в семье? Волновал ли вас этот вопрос до брака?
— Он начал нас волновать после рождения третьего ребенка! — смеется Матвей. — Должно ли их быть… столько!
— Есть ли у вас на это какой-то взгляд?
Настя смеется тихо, в себя.
— Как-то все складывается само. Очень сложно подумать, сколько должно быть, а сколько не должно… Тяжело, конечно, с ними, но, с другой стороны, такая огромная радость. Сейчас вот Ваня подрастает, и мне уже кажется, что мне не хватает маленького ребенка!
Матвей слушает Настю отстранившись и обобщает за двоих:
— У нас были дискуссии по этому вопросу, — сдается Матвей. — Я работаю в благотворительности, и там это обсуждается: вот нарожают, надо подходить ответственно. Многие мои коллеги говорят тем, кто обращается к нам за помощью: «Как так? Надо понимать свое финансовое положение». И я не понимаю, как можно планировать эту сторону жизни, никак. Ну вот я даже пытаюсь представить — и не понимаю. Исходя из чего я должен принять такое решение?
— Это абсолютное приятие дает вам православие?
— Этот вопрос — кто на него может ответить? Мы пришли в православие, потому что мы такие, — или это православие нас сделало такими? Это уже не проверить.
Пять лет назад Матвей помогал в алтаре, читал на службах и постоянно был в храме, а сейчас служит раз в неделю и чувствует себя немного потерянным. Раз в неделю он старается вырваться, «взять какую-нибудь службу». Во время службы теперь его терзают мирские мысли: «лучше бы я это время провел с семьей» или «лучше бы я сделал какую-нибудь работу» — однако к концу службы они уходят, и Матвей чувствует, что все становится на свои места.
— Есть хорошее выражение — духовная практика. Это духовная практика, которая помогает… соотнестись, что ли, с Богом. Все это пение, много очень сложных текстов, которые на той скорости, на которой их произносят, просто невозможно провести через мозг, еще они на непонятном языке для нас. Наверное, в этом смысл. Соотнестись: есть я — и есть Бог. «Ходить перед лицом Божиим» — это еще ветхозаветное выражение. Наверное, в этом для меня смысл.
— Как вы думаете, почему сейчас это к вам вернулось, перескочив через атеизм бабушек и дедушек?
— Люди начинают возвращаться к идее, что не все постигается разумом, — предполагает Матвей.
— Советское время уничтожило очень много всего, и традиции семейные в том числе, — жарко говорит Настя. — И поэтому сейчас, не имея корней, люди возвращаются к прошлому. Ищут свои корни. Потому что невозможно быть подвешенным. Когда ты подвешен, то тебя мотает и качает, и происходят ужасные вещи.
Дети с воплями врываются в кухню, наперебой пересказывая мультик и заглушая родителей.
— Может, мы в силу возраста так думаем, потому что мы молодые, — говорит Матвей. — Для нас православие — религия, действующая здесь и сейчас. Я тут нашел свою старую дневниковую запись, перед свадьбой. В жанре проповеди сам себе рассказываю про смысл жизни. И там все про встречу с Богом, про Царство Небесное. И я понимаю, что я бы и сейчас написал все то же самое, только вместо «Царство Небесное» везде бы написал слово «счастье».
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.