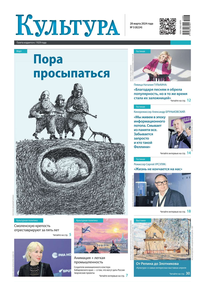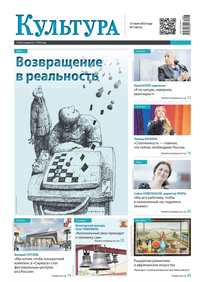Иллюстратору уже удалось удивить читателя картинкой в первом томе сочинения Акунина: древние славяне были изображены грязными всклокоченными гоблинами, зато на соседних страницах размещались балты (в реальности стоявшие на куда более низком культурном уровне) — причесанные и прилизанные, будто с фестиваля хорового пения.
На сей раз своего князя-подкулачника Сакуров вывел из следующего описания, цитируемого Акуниным: «Бяше крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело, брадою же и власы черн, взором же дивен зело». Мы можем себе представить Дмитрия Донского наподобие сильно располневшего Петра I — высокий, грузный, чернобородый — бороды у русских князей, как и у большинства современников, были, разумеется, длинными и окладистыми, — и с пронизывающим душу острым взглядом. Носил он, разумеется, красную рубаху и зеленый плащ (как нас в том удостоверяют миниатюры к «Сказанию о Мамаевом побоище»), но никак не наоборот.
Окарикатуривание характерно не только для портрета, но и для текста. По Акунину, Дмитрий начинает самостоятельное правление с неудачи в «недальновидном» конфликте с Тверью, затем он регулярно принимает «поспешные» решения. «Великая победа» на Куликовом поле «оборачивается страшным поражением» — нашествием Тохтамыша. В этом нашествии Дмитрий виноват сам, поскольку разгромил противника Тохтамыша — Мамая. А заканчивает свою жизнь великий князь «оставив государство в очень тяжелом, даже критическом состоянии». Завершает Акунин хулы на Дмитрия Ивановича выпиской из главного источника своих оценок — украинского историка Н.И. Костомарова: «Княжение Дмитрия Донского принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории».
В отличие от первого тома «Истории» Акунина, где много его собственных глупостей и ляпов, во втором томе от автора почти ничего — и эта неприязнь тоже заемная. Именно куликовскому победителю случилось стать предметом недоброжелательства большинства наших прогрессивных историописателей — его представляют одновременно «посредственностью» (как и всю династию Калиты), человеком жестоким, недалеким, властолюбивым, трусливым и неудачливым. Свою неприязнь к Дмитрию Донскому обычно объясняют его мнимым «бегством» в 1382 году из Москвы, при нашествии Тохтамыша. Хотя говорить о «трусости» князя, сражавшегося в Куликовской битве в передовом полку и получившего раны, не приходится — уход из осады был нормой для сохранения управляемости княжества. Тогда в Кремле вайфая не было и возможности связаться по скайпу с Угличем или Костромой, чтобы вызвать войска, не имелось.
На самом деле, причины антипатии к Дмитрию Ивановичу гораздо глубже — наша историография вообще недолюбливала основателей властной вертикали. А делом всей короткой жизни Дмитрия Донского (он умер в 38 лет) была борьба за власть. Он использовал любые средства, не боялся рисковать, готов был на все и в конечном счете победил.
Чтобы это понять, нам необходимо избавиться от оптической иллюзии взгляда на Куликовскую битву как на «попытку освободиться от татарского гнета». Дмитрий Иванович вполне трезво оценивал ситуацию. Чего он не хотел и не собирался допускать, прежде всего, — так это ситуации, чтобы кто-либо из соседних князей, поехав в Орду, посмел оспорить великое княжение у главы московского дома и его потомков. А Мамай, бывший, напомню, не чингизидом, а временщиком, занимавшим должность беклярибека, охотно приторговывал великокняжеским ярлыком. Было совершенно ясно, что, пока он у власти, о закреплении за Москвой великого княжения можно забыть.
Дмитрий Иванович собрал сильную коалицию русских князей и начал пограничную войну с Мамаем, не только не выплачивая дань, но и отрезая его от доходов с других данников. Грядущее столкновение для Дмитрия Ивановича становилось, таким образом, делом всей жизни — либо он покончит с Мамаем и утвердит за своим домом великое княжение навсегда, либо падет. Для Мамая же поход 1380 года оказался жестом отчаяния — его власть в Орде шаталась, из глубин Азии наступал серьезный враг, природный чингизид Тохтамыш, а Русь полностью вышла из повиновения. Но зато ударить по Дмитрию он рассчитывал вместе с литовским князем Ягайлой.
Изображение Акуниным Куликовской битвы поражает своей шаблонностью и хрестоматийностью. От такого труда ждешь ревизий, смелых завиральных концепций и, столкнувшись внезапно с пересказом школьного учебника, ощущаешь, что автор «чижика съел». А ведь Куликовская битва — это тот случай, где Акунин мог бы выступить потрясателем основ, поразить читателя разрушением мифов. Он мог бы поставить под сомнение визит к преподобному Сергию, поединок Пересвета с Челубеем, даже сам удар засадного полка — и при этом привести ссылки на десятки современных работ серьезных исследователей. Но, как мы уже не раз могли убедиться, новую научную литературу по предмету Акунин попросту не читал.
Мы воспитаны на картине Куликовской битвы, сформированной гениальным эпическим памятником, созданным через столетие после сражения — «Сказанием о Мамаевом побоище». Именно здесь мы впервые находим памятные детали сражения. Но писать о Куликовской битве по «Сказанию» — почти то же самое, что создавать историю Ронсевальской битвы по «Песни о Роланде», где окруженный маврами маркграф пытается разбить свой меч о камень. По летописным источникам, лишенным прикрас, и поэтической, списанной со «Слова о Полку Игореве», но современной событиям «Задонщине», ход Куликовской битвы представляется гораздо проще и логичней.
Смелым стратегическим маневром князь Дмитрий, бывший, как позволяют судить факты, одним из талантливейших полководцев русской истории, рассек своих врагов — Мамая и Ягайлу. Русская рать перешла Дон и встала на Куликовом поле в узком месте, так, что с одного фланга ее прикрывала болотистая речка Смолка, а с другой — овраг. Войско Мамая попало в узкий коридор, где не могло реализовать свое численное преимущество.
Князь Дмитрий Иванович отправился в русский сторожевой полк, вместе с которым напал на хана-чингизида, от имени которого правил Мамай — «поганого царя Теляка». То есть битва и в самом деле началась с поединка, но — поединка предводителей. Затем удар мамаевой рати принял передовой полк, который был почти полностью истреблен. Три часа, долго и мучительно, шла рубка, «и паде труп на трупѣ, паде тѣло татарское на телеси христианскомъ».
Битва шла на глазах у великого князя. Лишь «Сказание о Мамаевом побоище» изобретает странную легенду о том, что Дмитрий, переодетый простым воином, пал, раненный в начале битвы. И Симеоновская, и Новгородская летописи, и «Задонщина» изображают Дмитрия во главе своих полков.
Наконец татарский напор начал превозмогать, а поредевшая русская рать — пятиться. При этом нет никаких оснований рисовать, как на картах в учебниках, прорыв татарами левого фланга русских. Скорее всего, обе свалявшиеся людские группы начали подаваться в сторону Непрядвы, и тут-то и последовал удар русского резерва — рати Владимира Серпуховского. Называть его «засадным полком» (и ерничать, как Акунин, над «не бог весть какой хитростью») вряд ли корректно — на месте битвы просто негде было спрятать достаточную для перелома засаду. Речь идет скорее об общем контрударе русских, который вызвал у врагов панический испуг. Нервы Мамая не выдержали, и он бежал, увлекая за собой остатки своего войска, преследуемые русскими.
Без эпических деталей, внесенных «Сказанием о Мамаевом побоище», Куликовская битва, может быть, выглядит более скучно, но зато не затемняется ее политический смысл. Он состоял, как мы уже отметили ранее, в том, что Дмитрию Ивановичу нужно было убрать с дороги Мамая, который постоянно пытался передать великое княжение то тверскому, то какому-либо еще князю. И этой цели Дмитрий Донской полностью достиг — Мамая не стало.
На два года московский князь стал практически абсолютным гегемоном Руси. Олег Рязанский признал себя младшим братом. В Литве князь Кейстут отстранил ставшего польским королем Ягайлу от великого княжения и заключил с Москвой добрый мир. Но всю эту идиллию разрушили приход Тохтамыша, сожжение Кремля и возвращение в данническую зависимость от Орды.
Если смотреть через очки мифологемы «Куликовская битва как попытка свержения Ордынского ига», то можно повторить вслед за Акуниным, что операция закончилась неудачно. Власть Тохтамыша оказалась даже тяжелее власти Мамая. Но совершенно иначе обстоит дело, если взглянуть со стороны политической стратегии Дмитрия Донского. Тохтамыш не посмел отнять даже у разбитого московского князя великое княжение. Его устроила выплата 8000 рублей за два просроченных года своего ханства (эту сумму Дмитрий полностью собрал с Новгорода) и пребывание в заложниках наследника — Василия Дмитриевича, через несколько лет из Орды сбежавшего.
В мае 1389 года великий князь Дмитрий Иванович мог взирать на дело всей жизни с полным удовлетворением. Он выиграл свою главную войну. В середине духовной грамоты — завещания, в перечислении оставляемых сыновьям городов и сел, он как бы между делом бросает: «А се благословляю сына своего, князя Василия, своею отчиною, великим княжением». Великое княжение — не только титул, но и город Владимир с обширными, тяготеющими к нему землями и доходами, — превратилось в принадлежность московского дворцового гардероба. Распоряжаться этим гардеробом ордынский хан не имел уже никакого права.
Впрочем, в завещании куликовский победитель высказался и об Орде: «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду». Орда отныне, не всесильная властительница душ и телес русских людей, а мелкая неприятность, жало в плоть, которое Бог авось вскоре переменит. Ведь удалось же самому Дмитрию Ивановичу «переменить» досадливого бека Мамая. Но цитаты из «духовной» Дмитрия Ивановича вы у Акунина не найдете — он ее попросту не читал.