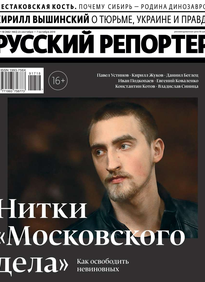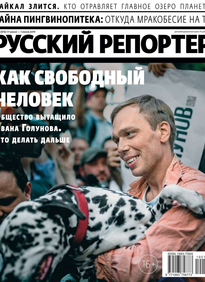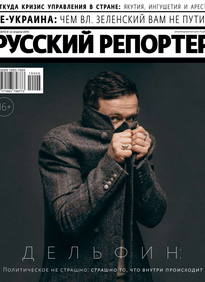В Доме трудолюбия «Ной» — это благотворительная сеть приютов и работных домов для бездомных, 20 филиалов в Москве и Подмосковье, — более 600 человек одновременно; большая половина из них работает, чтобы содержать и социальные дома для тех, кто работать не может. Один из приютов, в Заозерном, восстанавливается после пожара и остро нуждается в пожертвованиях. Но люди редко жертвуют на бомжей — чаще на детей и животных. Понятно: легче любить чистых и слабых, чем пьяных и безнадежных. Или есть надежда? Есть ли шансы на их спасение? Можно ли любить и спасти тех, кто уже опустился на самое дно?
Игорь появляется со стороны Ленинградского вокзала, выныривает из-за фонтана с Георгием Победоносцем. В лице проглядывает еле заметная дубленность; понятно, что он много времени провел на морозе — раньше, не в эту зиму. Гремят чемоданы на колесиках по брусчатке Площади трех вокзалов. Люди спешат. Переговариваются. Людские воды стекают в метро, в вокзальные входы.
Игорь спускается в метро. Только что он отправил в Заозерное супружескую пару, жившую в холодном вагончике при стройке. Мужчину — в рабочий дом, женщину — в социальный. Спускаясь по эскалатору, Игорь смотрит в телефон. Сегодня звонил Илья — бездомный с Октябрьской. Давно живет в переходах, его там все знают и бесплатно пускают в метро. «Ну все, Игорек, больше не могу, замерз, забирай меня!» В условленном месте Игорь его не дождался. Илья — крупный, здоровый, ему лет сорок, для рабочего дома годный. Согрелся и передумал.
На Курской Игорь встает на площадке перед продуктовым магазином. Здесь людской водоворот мельче. Мимо проходит девушка в шапке-панде. Плюшевая голова панды плывет в морозном воздухе и исчезает у лестницы в «Атриум». Игорь стоит у магазина десять минут. Пятнадцать. Напротив него — мужчина в теплой куртке, с рюкзачком на спине. Они не смотрят друг на друга, но видно: присутствие друг друга чувствуют. Через двадцать минут Игорь делает решительный шаг в сторону незнакомца. Протягивает зеленую визитку «Дом трудолюбия “Ной”. Помощь людям в сложной жизненной ситуации. Работа, жилье, питание. Круглосуточно».
— Нет, братишка, — отвечает тот. Улыбка резиново растягивает его тугое, будто когда-то тоже выдубленное, лицо. — За мной сейчас придут. Уезжаю на заработки на Урал. А за рабочие дома я знаю. Но мне не надо.
Игорь входит в вокзал. Расстегивает пуховик. Мимо резво проносится молодой мужчина, успев зацепиться взглядом с Игорем.
— Тоже волонтер, — говорит он. — Собирает людей в рабочие дома. Но он не из нашей организации.
Слово «организация» Игорь произносит с почтением. Входит в зал ожидания. Мельком бросает взгляд на двоих мужчин. Они — большерукие, растерянные — сидят, привалившись друг к другу опущенными плечами. Ладони держат на коленях, как провинившиеся школьники.
— Вчера к ним подходил, — говорит Игорь, — сказали: «У нас все хорошо». Но люди, у которых все хорошо, приезжают на вокзал, чтобы уехать. А они тут второй день. Может, работодатель кинул, не заплатил. А может, выпили — и ограбили их. Но визитка организации у них есть.
Он подходит к кофейне. У касс очереди. Все столики заняты. Люди пьют, едят. С краю за пустым столом сидит молодой человек. Игорь останавливается. Протягивает ему визитку. Парень смотрит в одну точку на ней. Сонно качает головой.
— Нет, большое спасибо, мне не надо, — отвечает он. — За мной сейчас придут.
Игорь садится за дальний столик напротив, смотрит на парня. Звонит телефон.
— Пусть он доедет до Новокосино, — выслушав, говорит в трубку Игорь. — Я его заберу. Только пусть позвонит со своего номера… Тогда пусть свой телефон зарядит и позвонит. Я тут буду от него звонка ждать… Дьячок звонил. В храм к нему пришел бездомный, попросил найти ему место. А у них — визитка организации.
Игорь кладет телефон на столик. Откидывает крышку чехла, достает из кармана аккуратно сложенный носовой платок и протирает экран. Телефон молчит. Игорь снова поглядывает на парня. А тот пустыми голубыми глазами смотрит на сонную стену ожидания.
— По нему же все видно, — говорит Игорь. — Молодой, а на вокзале сидит. Небритый. Обувь грязная. В беду попал. Я на него еще вчера внимание обратил. Стоял возле центрального входа, кого-то ждал. А вот он сегодня снова кого-то ждет. У них, как правило, когда деньги заканчиваются, они бездомных находят и с ними пить начинают. Сначала держатся, держатся, а потом переключаются — и все, идут на дно. А вот пока еще не пошел, его спасти можно, забрать в организацию. Ну, я тут, если захочет, если сочтет нужным.
То, что Игорь с таким почтением называет «организацией» — Дом трудолюбия «Ной». Состоит из девяти рабочих домов и четырех социальных. В рабочих домах живет четыреста мужчин. За ночлег, еду и восстановление документов, если таковые утеряны, они работают шесть дней в неделю — это тяжелый физический труд. Рабочих домов, по словам Игоря, в Москве и Подмосковье тысячи. В тех домах половину дохода мужчины отдают владельцу дома. В «Ное» половина заработка уходит на содержание социальных домов, где живет еще четыреста бездомных, не способных к тяжелому труду, брошенных инвалидов и женщин с маленькими детьми, которым некуда пойти.
Парень встает, когда кто-то подходит к столику с подносом, заставленным фаст-фудом, и, сонно качаясь, уходит.
— Я сам из таких, — говорит Игорь. — Я честно работал, считал, что я человек добросовестный… Но в плане оплаты от работодателя увидел совсем другое, — в его голосе появляется обида. — Мне не проплатили общежитие здесь, в Москве. А сам я с Воронежа. Точнее, с области. Я растягивал, растягивал средства, но кушать хотелось. На третий день поехал на Казанский вокзал искать выход — и встретил организацию…
Он снова выходит на улицу, теряет перчатку, возвращается к лестнице, достает перчатку из лужи. Грязные капли, когда он за ней наклоняется, попадают на его пуховик. Игорь подходит к прохожему. Тот, вчитавшись в визитку, стягивает со спины рюкзак.
— Подожди-подожди, — нетерпеливо бормочет он, хватая Игоря за рукав, не давая уйти.
Извлекает из рюкзака свою визитку — владелец агентства по недвижимости. — Во!
— Обознался, — извиняется Игорь.
Темнеет. Круговорот людей усиливается — они валят из метро. Игорь ходит туда-сюда — между вокзалом и «Атриумом». Из окна вокзала виден человек в кепке. Он стоит, вперившись в толстую книгу. Похож на ожидающего одного из составов, которые женский, пропитанный холодной вежливостью голос отправляет во все концы страны.
— Это бездомный, — говорит Игорь, — уже два месяца наблюдаю его на вокзале. Визитку предлагал неоднократно. Он уже при виде меня убегает. На Курском вокзале им лучше, чем на других — тут охрана лояльна к бездомным. Если они чистые и ведут себя адекватно, их не прогоняют. Неподалеку есть соцпомывка, а в соседнем храме можно теплые вещи взять. Они еще сами знают, где можно прилечь поспать. А покушать? Подходишь к любой чебуречной и вежливо просишь кого-то: «Купите мне пирожок». Они убеждены: так жить нормально. Они рабочих домов боятся — уже там были. В некоторых, может, к ним физическая сила применялась.
Игорь перебегает через дорогу. Сгребает с бордюра чистый снег, наваливает его на грудь и чистит пуховик. Звук скольжения смешивается со словами. Игорю не стыдно, что он обознался — нормальные люди визитку берут и передают тем, кто нуждается. А ненормальные — не под тем углом все понимают. Он же сам тоже с глубинки. Там без выпивки никуда: ни в гости, ни на работу.
— Вокруг только выпивка, — говорит он, стряхивая снег со скользкого пуховика. — Я искал какую-нибудь организацию. Попал в «Преображение России». Они меня увезли в Саратов, но изначально не сказали, что они протестанты. А я просто хотел остановиться. Забрали у меня документы. Я от них убегал через забор, документы с полицией забрал. Вернулся в Воронеж — и опять в то же самое, от чего ушел. Продал телефон, приехал в Москву, работу на стройке нашел. Работал честно, мне пятьсот рублей на сигареты выдавали… А со мной нечестно поступили.
— Еще не созрел! — ковыляет мимо него старый бомж с палкой.
— Ха-ха, — усмехается Игорь. — Я обзвонил всех руководителей социальных домов, уговорил, чтобы ему освободили место на нижнем ярусе, дал ему сто рублей, проводил в метро: «Давай! Счастливо!». Руководитель выехал его встречать, а на следующий день смотрю — он снова тут. Подхожу к нему, а он: «Игорек, я еще два дня на улице протяну». Подхожу через два дня, говорит: «Пока не созрел!».
Темнеет. Ярче горят огни торгового центра. Поезда продолжают уходить. Игорь продолжает стоять у продуктового. Долетают бодрые обрывки фраз идущих с работы. Заложив руки в карманы, ссутулившись и глядя куда-то прицельно, проходят мимо два бомжа — большой и маленький. Деловой походкой хозяев дна. Игорь спускается в метро: ехать в Медведково, в рабочий дом, где, кроме него, живут еще шестьдесят мужчин. Большерукие двое и сонный парень остаются на вокзале — смотреть в точку ожидания, за которой ничего нет. Завтра Игорь вернется и снова протянет им визитку организации. Главное, чтобы они за ночь не переключились. Он по себе знает: обычно люди держатся, держатся, а потом переключаются: выпивают с бездомными некачественной водки и легко летят на дно. Очнувшись, еще раз выпивают и летят еще глубже. Но пока они барахтаются в водах ожидания, их можно спасти.
Выйдя из маршрутки, следующей от Медведково, Игорь перебегает дорогу. Идет по тонкой тропке в снегу, вытоптанной у щита, защищающего от трассы. Выходит на широкую дорогу. Сугробы вырастают ему по плечи. Он стучит кулаками по груди. На удары по грудной клетке, приглушенные пуховиком, прибегают лохматые дворняги. Толкают Игоря чистыми от снега лапами в грудь. В их сопровождении он дотягивает до загородного дома. Если в рабочих домах не станет работы, если мужчины не захотят идти в рабочие дома или если рабочие дома других организаций поднимут оплату труда так, что приходить в них станет выгодно гастарбайтерам, социальные дома «Ноя» придется закрыть. Под лестницей над открытым журналом посещений сидит старик с колючими глазами. Он протягивает Игорю алкотестер. Игорь дует в трубу.
— По нулям, — сообщает старик, впуская Игоря в дом.
Живые мертвые бомжи
— Нет, Павел, хороших людей все-таки больше, — спокойно говорит мужчина, не поднимая головы от натянутой на раму основы, куда он медленными пальцами вплетает цветные полоски.
— А мы не знаем, сколько бомжей убито и сколько умерло! — кричит Павел, щупая полы длинной жилетки из меха. — Люди хотят жить так, чтобы им никто не мешал! И за это люди готовы убивать! Да! Убивать! Это во всех людях заложено! Плохих людей больше!
— Живых бомжей больше, — невозмутимо отвечает первый. — Поэтому и хороших людей больше.
Павел распаляется, кричит без энергии, как будто отгоняет от себя свору невидимых собак. В углу дед без глаза сматывает в моток ленту. Другой за его спиной разрезает женский ситцевый халат на полоски. Молодой инвалид со скрюченной рукой и острыми коленками сидит у края стола; ему в спину дует из щели наглухо запертой подвальной двери. Женщина срезает ворс с уже сплетенных ковриков; ее движения медленные, одеревенелые, как и все тело, положение которого она подолгу не меняет. Сверху приходит кисловатый запах, какой появляется в закупоренных помещениях, где собираются люди, чистая кожа которых помнит прежнюю немытость и среди которых есть лежачий больной. Все лица — одутловатые, дубленность — примета людей улицы.
— Государство всех готово убить, чтобы ему никто не мешал! — продолжает Павел, настороженно зыркая из-под спущенных на нос очков. — Да-да, Игорь, наше государство! А кто бомжу виноват, что он стал бомжом? Обманули! Ха-ха! А вы не задавались вопросом, почему у него забрали квартиру?.. Нет, секундочку! Кто это придет к вам и отнимет вашу квартиру? А вот если вы взяли в кредит немеряно или по пьяни паспорт отдали и на него взяли кредит заезжие люди — тогда сами и виноваты! Да где вы все этих глупостей наслушались-то, что бомж не сам виноват! Да! Да! Сто раз — да. Миллион раз — да! Сам виноват! И пусть не оправдывается!
— Но бывают исключения, Павел, — негромко вставляет Игорь.
— Один процент из ста! Если оказался на улице, то причины две — синюха или наркотики! Или нравится ему просто так жить! А мне? А я че, психованный больной, чтобы мне нравилось? Мозги еще не до конца пропил. Кому нравится жить на улице, где либо замерзнешь, либо тебя убьют такие же бомжи, азиаты или подростки? Просто так убьют! Чтобы позабавиться! Ради удовольствия.
— Бомж обществу мешает, — соглашается Игорь. — Он грязный, пьяный, распространяет болезни.
— За такое — только убивать! — надрывно кричит Павел. — Он еще в подъезде нагадит!
— Я не гадил, — скромно говорит Игорь. — Приедет полиция, выкинет меня: «Чтоб тебя больше в этом подъезде не было, а то жильцы опять будут звонить». Я подожду, пока они уедут, и снова в тот же подъезд. А куда мне идти? На улицу? Чтоб я ноги себе отморозил? Самосохранение срабатывает сильнее страха.
— Но мы же люди! Мы — человеки! — кричит Павел.
— А так жильцы, когда устанут, могут поджечь или избить, — с расстановками продолжает Игорь, отвлекаясь на работу — на цветные полоски, которые продевает в основу. — А так я работал. Потом потерял работу, нечем стало платить за квартиру. Пил. Оказался на улице — на Коровинском Шоссе. Осень была, листья желтеют, а я пустоту чувствую. И солнце мне — не солнце. Но не загибаться же. Нашел себе подобных и уподобился им. Главное же — человечность сохранить: жить так, чтобы никому не мешать.
— А депутату ты все равно мешаешь. Государству и бомж, и дворник всегда будут мешать.
По железной лестнице спускается Екатерина, молодая широкоплечая женщина. Она мастер спорта. Руководит домом, в котором собраны со всей Москвы и Подмосковья отверженные. Ключи от дома у нее. Согласно правилам «Ноя», дом нельзя покидать без разрешения администрации, в доме нельзя пить алкоголь. Екатерина может разбудить жильцов ночью и продуть — попросить дунуть в трубку. Провинившийся будет наказан, из его зарплаты вычтут штраф, а восстановление его документов будет отложено на месяц. Выходить из дома можно только в воскресенье, но возвращаться — трезвым. В «Ное» нельзя уклоняться от выполнения внутреннего распорядка. Нельзя лукавить и обманывать. Нельзя сквернословить и говорить на блатном жаргоне. Нельзя использовать слабость подопечных, умственную и физическую, в своих корыстных целях. Нельзя руководителю занимать денег у подопечных. В любой час дня и ночи без предупреждения в дом может нагрянуть руководство над руководством или основатель «Ноя» Емилиан Сосинский и продуть саму Екатерину. Но прежде, чем Сосинский сюда войдет через отдраенную, будто люк, железную дверь, его продуют самого.
Несколько лет назад у Екатерины украли на вокзале сумку с документами, деньгами и телефоном. Она пошла в церковь. Из церкви ее забрали сюда. В «Ное» она получает зарплату и живет с сыном, который ходит в школу.
— А Бог-то поспособствовал, — сварливо говорит Павел. — Я-то не так много времени на улице провел, ноги не отморозил. Если человек думает, он может поставить цель — палатку ту же самую купить, в парке ее ночью поставить. Опять же в палатке теплей, чем на улице. А потом в силу погодных условий пришлось обратиться сюда за помощью.
Он перестает кричать, становится слышна музыка, играющая в магнитофоне: «Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней».
— Москва — безумный город, — натужно кричит Павел, перебивая песню. — Сюда приехало много разных людей со всего бывшего Союза. С одной целью — заработать. Но кому они тут нужны?
Щелкают ножницы. Игорь встает, тянется к металлическим костылям, прислоненным к стене, уходит в угол и возвращается с новыми тряпками для полосок. Инвалид Николай мерзнет и поглядывает на деда глазами чистыми, как стекло, голубыми. Дед работает шумно — зло сопя, подкалывает иголками полоски.
— А че это я должен про себя рассказывать, — поднимает он белое лицо. — Я ничего не скажу. Я в Казахстане работал, мне пенсию не дали, печати им не нравятся. Сделали запрос в Казахстан, Казахстан не отвечает, и говорят: «Гуляй. В шестьдесят пять придешь за социальной». А мне шестьдесят три. До шестидесяти пяти че мне делать? Три года в подъездах ночевал. До этого я жил в деревне! Чего непонятного?! — раздражается он. Николай уходит. — Сюда приехал, пенсию не дали, на заработки не взяли, говорят, старый. Да че я в деревню не вернулся? Дом ра-зоб-ра-ли! — он будто приседает на слоги, и слышно: когда-то горазд был покрикивать, но потом отвык, только острые иголки наточились в серых глазах. — Да вот так. Жена давно умерла. А дети? Дети в тюрь-ме си-дя-ат. Чего ж тут непонятного? Я б сюда не пришел, если б ноги не опухали. А в подъездах наркоманы бьют. Знаю одного, которого убили, и нету проблем у них — убили и убили… Как за что? В подъезд лазил спать! Сам я эти полоски подобрал! Только до конца не хватило! Все, хватит, ничего больше не скажу.
На его раме основа из темно-фиолетового бархата. Сверху и ниже середины вплетены полоски из золотисто-зеленого шелка. А снизу — выцветший блеклый ситец.
— Жениться не надо было, — снова заговаривает дед. — Лучше б я всю жизнь прожил один. Ее с ребенком взял — с дочкой. Трое детей у меня — мальчики. Одного, не знаю где, говорят, зарезали. Младший говорил, ему вроде кто-то показывал — горло перерезано, кадык торчит, лежит в луже крови. Ну не знаю, правда это или нет, — дед поднимает острые злые глаза. — А еще двое сидят! Си-дя-ят! — приседает. — Да алюминий крали! У нас же в деревне работы не было и нет. Да Господи! Не буду я вам о сыновьях ничего говорить… Только детей я не бросил. Они ж все вот такие ма-а-аленькие были, когда жена умерла. Никому их не отдал. Стирал, варил, в школу отправлял, как положено. Ко мне ездили эти — из соцзащиты, забрать хотели. Ага, щас — шиш им, а не детей! Пьяным меня все равно не поймали. Хотел бы я узнать, что с сыном. А как я узнаю? Здесь, говорят, в районе трех вокзалов порезали его. Жениться не надо было! Только я уж и не знаю, правда это или нет. Когда его в тюрьму забрали, он мне один раз только письмо написал: «Папа, ехай домой, а то дом уже весь растащат». А я и поехал, а дом уже разобрали, даже счетчик выдернули. Посидел я ночь на лавочке — и назад в город. Так-то с маленькими детьми тяжело одному было, когда зарплату не давали. Я-то постираю, скажу: «Смотрите, это в школу наденете», и сам на работу. Прихожу, они — грязные, на рыбалку ходили. Дети есть дети. Тем более пацаны. А девочка неродная мне. Нехорошая она… Родила дочку, мужа бросила, гулять пошла. Он терпел-терпел, а ему же на работу надо. Я сам месяц просидел с этой девочкой. Потом он не вытерпел, ее в дом малютки сдал. Не его она, таджичка, что ли. Нагуляла. Та вернулась, забрала. Снова ушла — он ребенка снова сдал. Теперь она с другим живет, от того теперь родила. Нехорошая она.
Он режет на полоски старый ситец нехотя, будто нарезает года выцветшей оставшейся жизни себе и своим детям, за которыми в российской глубинке полоской, нарезанной отцом, тянется унаследованная беда. Вот эта полоска, натянутая на раму провинциальной жизни отцом, — безработица в вымирающей деревне. Эта — алкоголь: от того, что работы нет. Это — бедность: от всего остального. Кажется, стоит ребенку родиться, и к его рукам, ногам и кадыку отец еще под пеленками привязывает эти полоски. Но когда-то и кем-то они были нарезаны для него самого.
— Сильные выходят, слабые падают на дно!
Зачем кричит ребенок
В подвале появляется высокий плотный человек. Атмосфера меняется. Он одет в мешковатый серый спортивный костюм. Седая борода закрывает кадык. Он проходит по днищу задаренного от мира ковчега для отверженных так, будто имел привычку хаживать и во дворцах, и в театрах, и не только в эти времена, но и в другие. Говорит он с интонациями утомленного философа-эстета.
— Вы хотите поддержать слабого? — спрашивает с лукавством в голосе. — Паша, секундочку, помолчи, — мгновенно успокаивает он собирающегося вновь раскричаться Павла. — Вы что-нибудь слышали про первородный инстинкт? Когда ребенок появляется на свет, он орет, просит воздуха и пищи. Этот первородный инстинкт сохраняется на всю жизнь, так же он потом хватает водку или сигарету. И только от силы его воли зависит, успокоится он или нет. Здесь были и наркоманы, и алкоголики. А были просто бродяги. Что вы хотите с ними сделать? — хитро прищуривается он. — Создадите для них лагеря? Заставите работать насильно? В Советском Союзе действовала система лечебно-трудовых профилакториев, и она работала, но в тесной связи с государством. А эти заведения, — он переступает с ноги на ногу, будто проверяя прочность дна, — они существуют только на пожертвования. Государство не заинтересовано в спасении этих людей.
— А вы спросите, хотят бомжи возвращаться в это ваше человеческое общество! — огрызается Павел.
— А не надо спрашивать, — тихо припечатывает его внушительный человек. — Сначала надо дать шанс, а потом спросить. Иоанн Кронштадтский так поступал. Предоставлял в своих рабочих домах не только ночлег и еду, но и обучение профессии, — говорит он с такой хитрецой в голосе, будто и Кронштадтскому современником был. — У нас в стране в девяностые полностью уничтожили систему профессионального образования, ПТУ. Результат мы имеем — вот, — он обводит серыми глазами подвал. — У людей нет профессии. А если у человека силы воли нет, вы предлагаете его подтолкнуть? Толкать слабого — это уже фашизм. Через недельку меня здесь уже не окажется. Я шесть раз начинал жизнь с нуля. Через неделю начну ее еще раз — с минуса.
Он уходит, поднимается по лестнице и, кажется, из ковчега выйдет на другой стороне Земли, в другом времени, не дожидаясь, пока схлынут воды этого мира, чтобы рассказать там о том, кто сказал слабому: «Упади!».
— Ой, девочки, — женщина снимает ножницы с пальцев и кладет руки на колени. На пальцах у нее два кольца, одно — в виде змеи. — Меня муж по суду выписал. Я из Люберец. Но не смогла к своим детям и к своей маме в таком виде прийти без денег. Я с ними созваниваюсь, мне приходится много обманывать. Говорю — работаю на хозяина. На улице я прожила три месяца. Люди, допустим, хорошие попадались — хлеб, сосиски, молоко покупали. В туалет ходила за мусорные баки. Особенно мне, девочки, знаете, нравится молодежь, ну, такой контингент семнадцати лет. А я, допустим, курю. Я подхожу, они пачку могут отдать. Еще спрашивают: «Может, поесть хотите?». Честно говоря, у меня в сумке было зеркало, но я не смотрела в него — бесполезно. В торговом центре, допустим, могла помыться. Спала иногда в подъезде возле батареи. Ну, чувствовала себя человеком морально ущербленным. А потом просто зашла в церковь, сказала: замерзла, и меня дьячок этот сюда на машине отправил. Теперь я тут упорядочиваю свои чувства. Лицо изменилось, — резиновой рукой она трогает красную скулу. — У меня круги под глазами, — щупает под нижними веками аккуратно, как будто это не ее руки и не ее лицо. — Я раньше совсем другой была. У меня сыну двадцать два года. И еще два ребенка есть — им по пятнадцать. У них переходный возраст, они увидят меня и ужаснутся. Из-за холода-то приходилось выпивать. Но я и раньше пила — как все. Работала регулировщиком, делала реле для самолетов. Понимаете, потом стрессы начались. Родная сестра в двадцать шесть лет умерла от саркомы. Я выпивала от расстройства. Потом ребенку ее мне все это объяснять, тяжкий груз. Я же его себе взяла. Самое плохое, что я сделала в жизни, — это то, что я пила. А самое хорошее — то, что человека родила. Будет теперь кому, как говорится, продолжить род. Только боюсь я им в таком виде показаться, чтобы через это в них дурной пример не заложить.
Она снова вдевает пальцы в ножницы. Сверху приходит запах гречневой каши. Рабочий день подходит к концу. Над головой женщины на стене висит исколотая иголками тряпичная мышка.
Заповеди Ноя
Наверху комнаты заняты двухъярусными кроватями, между которыми остаются узкие проходы. Работает телевизор. Мужчины и женщины молча смотрят сериал, сидя на нижних ярусах с такими серьезными лицами, будто телевизор — это прозрачный люк ковчега в мир, запертый для них шесть дней в неделю.
— Не надо, — цедит мужчина на экране, — не надо на меня так смотреть. Ваша жена отбывает срок за убийство, и вижу, ее муж тоже присесть не против.
Звучит тревожная музыка. На экране двое сотрудников полиции нахохлились друг против друга. Их разделяет стол. Второй полицейский открывает рот, чтобы ответить.
— Ах ты, гад, — успевает ответить за него бездомный, сидящий на нижнем ярусе в ковчеге.
В коридоре на дощечке висят правила проживания в социальном доме. Слышно, как за стенкой старик без глаза разговаривает сам с собой — скомканно, неразборчиво, будто сам жадным ртом поедает свои слова на выходе. Невысокий человек с кустистыми бровями, похожий на старого клоуна, слоняется по коридору и рассказывает, как ему жилось нелегалом в Америке.
— Я на стройке работал, — Николай прислоняется. — Ну, меня машина сбила на трассе. Вы что, не заметили, мне делали трепанацию черепа? — он медленно подносит руку к неровной голове. — Они документы, телефон вытащили, а меня бросили на обочину. Как почему? Потому что я бездомный. Мне прохожие вызвали скорую. Я все помню. Семью помню. Ну, помню их, да. Может, и ищут они меня… Нет, я не даю о себе знать, не хочу быть для них обузой, я же инвалид, вы разве не видите?
В большую комнату заходит Екатерина, в дом только что позвонили и заказали грузчиков. Несколько мужчин во главе с тем, который только что назвал экранного полицейского гадом, быстро одеваются и идут к двери. В дом приезжает основатель «Ноя» — Емелиан Сосинский.
— Если заказчик узнает, откуда эти люди, он тут же их кинет, не будет им платить, — говорит Емилиан. Он сидит на нижнем ярусе кровати в маленькой комнате. Над его головой на панно золотистая тигрица кормит тигрят. — А зачем платить, если бездомный ничего потребовать не сможет? Узнав, что человек бездомный, вы будете говорить, что другой бы это быстрее сделал. Но все грузоперевозки сейчас — это люди из рабочих домов. Про Николая что бы вам хотелось узнать? Почему он не дает знать о себе семье? А для вас важно, почему? Знаете, важно то, как человек себя тут ведет. А что у него было перед этим, роли не играет. Здесь ему дается возможность жить заново. Если узнать, что у них было в прошлом, то окажется, что помогать-то тут и некому. У нас в подавляющем большинстве живут те, кто домой вернуться не может. Отселять их жить отдельно нельзя — сопьются и умрут. Только у единиц жизнь может иначе сложиться. А так им лучше оставаться здесь, жить в общине, шесть дней в неделю не выходить вообще, никогда не пить. Все те, кому мы помогали с отдельными комнатами, спились. В общество вернуть их почти невозможно, не надо даже строить иллюзий. Тем, кто может вернуться, хватит и той помощи, что мы им здесь оказали. Но это не более пяти процентов из ста. Эти люди на улице стали духовными инвалидами. Государство что-то делает, чтобы спасти физических инвалидов. А для духовных — ничего. Количество дней, проведенных человеком на улице, — это лишь часть айсберга над водой. А подводная намного больше, и к ней человек в десятки раз дольше шел. Это ему сначала надо было со всеми переругаться, потерять работу, семью, жилье. Не бывает такого в жизни — чтобы он просто шел, упал, очнулся без документов и стал бомжом. Картина меняется каждый год в худшую сторону: все больше людей, живущих на улице. Да, некоторые говорят нам, что мы на их труде наживаемся. Но десятки тысяч людей готовы трудиться. А те, кто говорит, что мы наживаемся, как правило, придут, помоются, переночуют, утром возьмут денег на проезд до работы — и уходят. Но я не знаю больше ни одной такой организации, у которой бы кроме рабочих домов были на содержании социальные. У нас вся прибыль от рабочих домов идет на содержание социальных. А в тысячах других рабочих домов — в карман руководителя. У них частный бизнес. Просто бизнес. Мы с самого начала говорим людям в рабочем доме: половина будет уходить на благотворительность. Из этих же денег мы платим за аренду домов, зарплату тем, кто в них занят. К нам еще идут благотворительные пожертвования.
Коренастый смуглый Емилиан мало похож на Ноя. Впрочем, никто не знает, как выглядел Ной. Но ковчег для отверженных — людей, не сумевших во взрослом возрасте отказаться от первородного инстинкта, слабых, повязанных полосками семейной беды — наверное, должен выглядеть так. Задраенный от мира, где сильные ходят толпой и не замечают, как слабые, прежде чем упасть на дно, подолгу ждут, стоя на краю. Загустевший воздухом дом, куда дверь открывается только в воскресенье.
— Здесь им тесно, как селедкам в бочке. Но я считаю, что сначала надо собрать всех людей с улиц, а потом улучшать быт, — продолжает Емилиан. — Потому что на улице они станут либо преступниками, либо жертвами. И если из этого выбирать, то пусть будет лучше нешикарный быт. Когда все бездомные будут приняты — а это возможно, поверьте! — тогда надо улучшать быт. Думать о том, чтобы обучать собранных людей профессии. Чтобы у детей, а у нас их сорок, было будущее. Из пяти учредителей нашей организации пятеро — православные христиане. Но мы набираем не только христиан, у нас живут и мусульмане. Основное наше правило — Евангелие. Если наши правила противоречат Евангелию, мы должны их отменить. Часто нам задавали вопрос: «Вот вы христиане. А зачем тогда людей штрафуете? А пьяного как можно выгнать на мороз?» У меня у самого педагогические корни, я в школе работал и в клубе с трудными подростками. И тоже раньше не понимал, как можно выгнать человека на мороз. Мы людей штрафовали сначала так: сто рублей за первую пьянку, двести — за вторую. Они знали, что когда штраф дойдет до пяти сотен, их выгонят на три дня. Это привело к тому, что весь дом был поголовно пьяный! Тогда стало понятно, что пользы от нашей работы — никакой. И вот когда начали сразу выгонять, пьянство моментально пресеклось. Еще в 2003 году я начал отвечать в храме Космы и Дамиана за помощь нуждающимся. Выходил им навстречу, давал одежду, деньги, еду, кому-то снимал жилье, покупал билет… Но стало ясно, что такая помощь неэффективна. Человек становится хуже, чем был раньше, от того, что ему дали. Начинает врать. Подачки развращают. Мы поняли, что помочь бездомному можно, только забрав его с улицы. А потом я прочел воззвания Иоанна Кронштадтского, написанные в 1872 году. Он писал: «Если ты хочешь помочь бездомному, то в первую очередь ты должен дать ему жилье и работу». И в этих воззваниях я нашел обоснования для себя — почему надо не просто давать. Оказалось, что все это уже было, дома трудолюбия Иоанна Кронштадтского; было, но забыто, и прошлое теперь должно стать будущим.
Раньше жильцам социальных домов выплачивалась зарплата за поделки — тысяча рублей в неделю. После кризиса в 2015 году сумма снизилась до полутора тысяч в месяц. И тогда тридцать процентов жильцов снова ушли на улицу — попрошайничество приносило больше денег. Сейчас им не платят ничего: нет средств, все уходит на содержание домов и еду.
— У нас места все заняты, — говорит Емилиан. — Но когда человек звонит и спрашивает: «Вы возьмете меня?», как я могу ему отказать? Я ему рассказываю, что пить нельзя, шесть дней в неделю выходить нельзя, есть место только на третьем ярусе. И если он на все соглашается, значит, дела у него совсем плохи. Тогда я начинаю людей утрамбовывать. Потому что следующее место, куда человек может попасть, — это в рабство. У нас сбежавших из рабства много. Потом, когда ты узнаешь, что эта женщина попала куда-то, где ее насиловали и ребенка отобрали, то понимаешь: надо было брать и хоть под кровать класть, лишь бы человек был здесь.
Стыд и флаг
Флаг Российской Федерации натянут между двумя кроватями нижнего яруса. Кто-то отгородился им от комнаты, где так же, как в социальных домах, ночует по десять человек. Но в рабочем доме воздух чище, столовая просторная, ремонт и комфорт. В телефоне молодого мужчины, лежащего на нижнем ярусе, тихо играет дискотечная музыка. Он закрыл лицо рукой — не хочет, чтобы посторонние видели его. Стыдится того, что оказался в рабочем доме.
— Нет, я могу рассказать, что со мной произошло, — поднимается он на кровати. У него светлые волосы, молодая кожа, не выдубленная морозом, голубые глаза. Он похож на того парня, к которому Игорь подходил в вокзальной кофейне, но — не тот. — Просто момент у меня произошел сложный, стало негде жить. Были документы, квартиру снимал, работал. А под Новый год зашел в клуб, решил расслабиться. Выпил и вышел без денег, без документов. Подходило время платить за квартиру, было нечем. Ушел, оказался здесь. Теперь мне надо восстановить документы и накопить на съемное жилье. Чтобы не соврать, я зарабатываю тут тысячи три в неделю. Поэтому, если бы была возможность не отдавать на содержание социальных домов, я бы не отдавал. Сами понимаете, труд-то тяжелый.
По темноте вынужденные благотворители возвращаются в рабочий дом со строек. А кто-то тут поблизости открыл конюшню. В ней не только лошади и пони. Вчера в сугробах Игоря из социального патруля атаковали два верблюда. Он потерял телефон и перчатки. Сейчас он просит старожила этого рабочего дома, пожилого Виталия, рассказать о себе.
— А что говорить? — разводит бледными руками тот. — Бомжевал. Встретил Емилиана. Вот и живу тут — без родины, без флага. Хотя флаг-то есть, — он оглядывается на перегородку. — Да Бог его знает, зачем он здесь флаг натянул… Спросить невозможно — он сейчас на стройке. Может, просто под руку попался. А может, патриот.