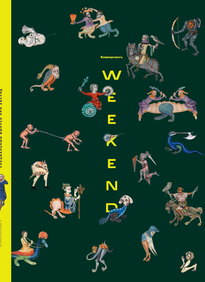В 1949 году территория Германии, которая с момента капитуляции делилась на четыре союзнические зоны, была поделена заново — на капиталистическую и социалистическую. Оба раздела были оккупационными, но если первый был по определению временным, то второй выглядел, может быть, не вечным, но устойчивым — и он потребовал выбора: начиная с 1949-го каждый немец жил не только «здесь», но еще и «не там». Для того чтобы эти «здесь» и «там» стали необратимыми, потребовалось еще 12 лет: Берлинская стена появилась в августе 1961-го. Все эти 12 лет не прекращалось перемещение немцев из одной Германии в другую — и оно шло в обе стороны, хотя и с разной интенсивностью. Вопреки нашим сегодняшним представлениям, в 1949 году выбор между социалистической Германией советского образца и ориентированной на Запад республикой Конрада Аденауэра не был очевидным и однозначным
Сама по себе необходимость переселения к 1949 году не была чем-то новым: большая часть гражданского населения Германии начиная с 1944 года находилась в состоянии массовой внутренней миграции. Но этот безостановочный побег диктовался не выбором, а стратегией ежедневного выживания в стране, потерпевшей поражение и оккупированной. Начиная с 1949-го выбирали место для дальнейшей мирной жизни.
Для большинства немцев этот выбор не был нагружен ни политическим, ни экзистенциальным смыслом. Они просто оставались там, где жили до 1944 года (или стремились туда вернуться). Германия в их жизни была равна Саксонии, Швабии, Баварии или Вестфалии — по сравнению со всем, что случилось с Германией в 1930–1940-х, заявленная разность между двумя государственными строями не выглядела судьбоносной.
Для гораздо меньшей и все же очень многочисленной части появление двух Германий стало дилеммой. Разрешение этой дилеммы может казаться очевидным только задним числом, с современной точки обзора. Из которой видно, что ФРГ означала экономическое процветание и умеренную европейскую политику, а ГДР — мини-социализм советского образца, местами даже более догматичный, с его нехваткой всего повседневного и подконтрольностью частной жизни.
Но в 1949-м выбирать нужно было не между двумя реальными государствами, а между двумя обещаниями, и в обоих было много туманного. Выбирали не то, что больше нравилось, а то, что меньше пугало.
Запад и Конрад Аденауэр обещали восстановление разрушенного: не только домов, но и уклада. Восток и Вальтер Ульбрихт обещали полный разрыв с прошлым: не реставрацию, а пересоздание.
В каждом из обещаний были свои угрозы.
В ФРГ быстро восстанавливалась экономика, но вместе с ней и влияние концернов, которые как две капли воды были похожи на те, что еще вчера производили эсэсовские униформы, «Циклон Б», моторы для люфтваффе. Старые партайгеноссен после половинчатой денацификации делали новые карьеры — Аденауэр, сам ухитрившийся с 1933 по 1945 год сохранять брезгливую дистанцию к режиму, в политике исходил из принципа «других немцев у меня для вас нет».
С другой стороны, и громогласный гэдээровский пафос отзывался недавним трагическим и позорным прошлым: только что обвалился «тридцатитысячелетний» рейх, который строили под похожие призывы. Зато здесь из общественного пространства были изгнаны все признаки нацизма — ГДР претендовала на то, чтобы стать Германией антифашистов. Это было очень сильным аргументом в ее пользу.
В Германии до войны была огромная левая политическая традиция, двумя массовыми партиями Веймарской республики были социал-демократы и коммунисты — для тех из них, кто выжил и не изменил своих взглядов, появление республики Ульбрихта было вещью не пугающей, а обнадеживающей.
Кроме того, ГДР привлекала тех, кому из предыдущей Германии пришлось бежать, чтобы выжить,— бежать как раз по причине несовместимости с фашизмом. Для многочисленной немецкой эмиграции идея «чистого листа» была гораздо менее пугающей, чем «как раньше». Ни один эмигрант, думавший о возвращении, не мог не примерить на себя «восточный вариант». Тем более что на востоке их, казалось, гораздо больше ждали.
Катапультированной из Москвы «группе Ульбрихта» были остро необходимы легитимирующие и рекламирующие ее громкие имена. Министром культуры стал известный поэт-экспрессионист Йозеф Бехер, получивший задание уговорить самых именитых коллег-эмигрантов на возвращение именно в восточную часть. ГДР хотела выглядеть «страной поэтов и мыслителей». Надо сказать, что эту часть конкуренции она поначалу, в общем-то, выиграла. Томас Манн, правда, не собирался возвращаться ни в какую Германию, но его младший брат Генрих был готов на переезд из США в Восточный Берлин — его успели заочно избрать президентом Академии искусств, и, если бы не внезапная смерть, он ее и возглавил бы. В ГДР приехали из эмиграции Брехт, Арнольд Цвейг, в Восточном Берлине остался работать великий реформатор оперы Вальтер Фельзенштайн, университет Лейпцига пополнялся выдающейся профессурой.
Вместе с тем многие из тех, кто не стал эмигрантом, а все годы фашизма оставался в Германии, боялись нищеты и отъема частной собственности, которыми грозило социалистическое обновление, больше, чем недостаточной денацификации. Поэтому главным направлением потока беженцев с 1949 года стало направление с востока на запад. Главным, но не единственным. Иначе ГДР, хоть бы и на советских штыках, не просуществовала бы 40 лет.
До 1961 года раздел не казался ни фатальным, ни необратимым — граница оставалась проницаемой, в Берлине можно было расплачиваться обеими новыми валютами, жить в западной части, а работать в восточной, состоять в юных пионерах и планировать учебу в Свободном университете в буржуазном Далеме, навещать родственников в другой части страны. «Cерый» рынок пользовался и социалистическими фиксированными ценами, и капиталистическими обменными курсами. Несмотря на это в обеих странах немедленно сложились клише друг о друге, а у искусства прибавилось сюжетов: в кино и литературе появился образ «другой» Германии, невозможный до 1949 года.
Публицист Эрих Куби в 1957 году написал книгу, в которой сравнил обе Германии с «двумя залами ожидания», где расположились 70 миллионов немцев. Они действительно ждали — тогда еще совсем не воссоединения, а просто какой-то ясности. Ясность наступила в августе 1961 года — ГДР больше не могла выдерживать постоянное массовое бегство населения, внутринемецкая граница окончательно закрылась. На ближайшие 28 лет две Германии стали двумя залами ожидания с (почти) запертой проходной дверью.
ГДР и ФРГ существовали в постоянном взаимном отражении. Степень искаженности каждого из отражений можно было понять, только оказавшись внутри оригинала, поэтому среди выбиравших одну из Германий было много и тех, кому пришлось совершить этот выбор не однажды