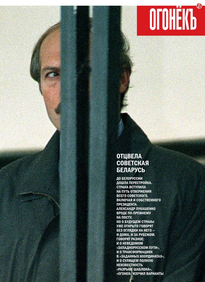Запрет публикаций особых мнений членов Конституционного суда только закрепляет примат советских практик в отечественном правосудии. Что такое «советский суд» и возможен ли в России другой, разбирался «Огонек».
Президент подписал закон, запрещающий судьям Конституционного суда публиковать свои особые мнения, то есть сообщать свою позицию в тех случаях, когда она не совпадает с решением большинства. Эти мнения публиковались в новой России без малого 30 лет, а в дореволюционной — соответствующий институт являлся примечательной чертой русского судопроизводства. И есть единственный исторический период, когда факт несогласия в высших судебных учреждениях скрывался,— это время Советского Союза. Поэтому логично задаться вопросом: куда и почему мы идем?
В Российской империи споры в Правительствующем сенате по важнейшим делам, которые были в его юрисдикции, не только не заметались под ковер, но и конспектировались, и публиковались. В Полном собрании законов Российской империи вы можете легко найти решения высших ее органов — прежде всего Сената, а также и Государственного совета, куда дела переходили вследствие разногласий в Сенате, чтобы получить высочайшее утверждение, стать прецедентом и лечь в основу нового закона, в которых свободно и подробно излагались детали конкретной тяжбы. В частности, там указывается, какие точки зрения были у разных членов Сената, какие мнения по делу существовали в Государственном совете: зачастую с перечислением имен и всегда с указанием итогов голосования (сколько за, сколько против конкретного решения). Так функционировала открытая полемическая система принятия важных юридических решений. Считалось нормальным, что у экспертов высокого уровня могут быть по вопросам права разные мнения.
Однако в советское время особые мнения были подавлены. Они в принципе допускались (как и в новейшей поправке), и иногда судьи их писали. Но эти бумаги хранились в запечатанных пакетах, сторонам дела о них не сообщали и, разумеется, их не публиковали (за советское время не было обнародовано ни одного особого мнения судьи какой-либо инстанции). То есть институт существовал в качестве фантома: мол, вдруг впоследствии высшие судебные иерархи захотят пересмотреть дело, тогда они откроют конвертик с особым мнением, согласятся с ним и изменят приговор… Сами судьи оказывались и оказываются снова в подневольном положении: какое бы ненормальное решение ни принял суд, в котором вы заседаете, дистанцироваться от этого решения и озвучить свое личное мнение невозможно. Важнее всего — нерушимое советское единство рядов. Монолитность, единогласность, никакой фракционности!
Нам только казалось, что в постсоветское время мы отошли от этой максимы. Да, в 1991 году были допущены особые мнения в Конституционном суде. Потом в 2008 году стали публиковаться особые мнения судей Высшего арбитражного суда. Но уже в 2014 году Высший арбитражный суд закрыли, отчасти именно за ту свободную полемическую атмосферу, которая в нем царила. Ну а теперь «фракционность» изгнана и из Конституционного суда. Не так давно как раз экс-председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов прокомментировал это событие просто: советская традиция восстановлена.
Общим порядком
А раз так, стоит разобраться, что такое советская правовая система, которую наша реальность все более напоминает. Во второй половине ХХ века дискуссия о ее природе велась не только в русскоязычных кругах, но и за рубежом. Итогом стало появление в сравнительном правоведении понятия «советская правовая семья», так как советское право ни на англосаксонское, ни на континентальное, ни на собственно русское право не походило. Заметный вклад в раскрытие подлинной сущности советского права принадлежит Олимпиаду Соломоновичу Иоффе — видному профессору кафедры гражданского права в Ленинградском университете, то есть той самой кафедры, которая подарила нам обоих президентов XXI века. В начале 80-х годов он вынужденно эмигрировал за рубеж и там совместно с Питером Мэггсом написал книгу «Советское право в теории и жизни» (Soviet Law in Theory and Practice), где на многочисленных примерах показывал уникальность правоприменения в Советском Союзе. Суть его заключалась в том, что законы могли быть отставлены в сторону во всех случаях, когда их строгое и объективное применение не устраивало политическое руководство СССР.
Легче всего это продемонстрировать, сравнив порядки в СССР с дореволюционными. Были ли у царского режима враги, которых хотелось осудить и отправить в места не столь отдаленные с полной гарантией? Были. Осуждали ли их? Осуждали. Но как это делали? Обычные суды Российской империи — это и общие суды, и окружные, и судебные палаты, и тем более мировые суды низшей инстанции, возникшие в результате реформы 1864 года,— не использовались в политических целях. Если самодержавной власти хотелось добиться осуждения политических преступников, то по высочайшему повелению дело переводили или в военный суд (вместо обычного), или прибегали к вовсе исключительным мерам, которые были в арсенале тогдашнего правительства в условиях усиленной или чрезвычайной охраны: можно было без суда и следствия на некоторый срок выслать замешанное в крамоле лицо из губернии. В условиях революционного террора в 1906–1907 годов использовались военно-полевые суды. Ужасно? Критике этих порядков посвящена львиная доля революционной публицистики, однако здесь упускается из виду важный момент: политические решения не продавливались руками обычных судов. Более того, в тех случаях, когда политически важное дело попадало все же в судейские руки (и по умолчанию рассматривалось присяжными), его итог далеко не всегда устраивал правительство. Поэтому правительство изобретало различные окольные пути, включая внесудебные. В этом факте парадоксальным образом как раз выражалось уважение «царизма» к закону и реальная независимость судей.
Советская же власть старалась добиваться осуждения нежелательных элементов с помощью обычных судов. Всякое дело представлялось как объективно рассмотренное независимым судом. Конечно, специальные суды и чрезвычайные органы тоже играли роль, особенно при Ленине и Сталине, но в целом власть стремилась к тому, чтобы вести дело якобы в нормальной процедуре. Лицемерие заключалось в том, что эта тактика, выглядевшая внешне как движение в сторону большей законности, в действительности уничтожала субъектность суда. Телефонное (заметьте, даже не письменное! Никаких свидетельств!) право стало нормой. Судьи, которые, как известно, были членами КПСС и подчинялись партийным органам, не могли чувствовать себя независимо ни в каких делах. Если они принимали решение по совести и, скажем так, по закону, то это могло быть только в тех рутинных тяжбах, в исходе которых верховная советская власть была совершенно не заинтересована. Да, таких тяжб было много, но не они характеризуют правовую систему. Правовую систему характеризуют как раз способы разрешения тех дел, в отношении которых существует заинтересованность верховной власти. Если суд не может решить сложное дело без оглядки на правительство, то он фактически превращается в департамент единой вертикали власти по рассмотрению споров.
Недаром же за сто лет, прошедших с 1917 года и до настоящего времени, не было ни одного случая, когда бы советский или постсоветский суд принял решение, всерьез не устраивающее верховную власть.
А до 1917 года такие решения в общих судах были явлением весьма обыкновенным. И далеко не всегда царская власть могла прибегнуть к каким-то обходным маневрам, чтобы избежать проблем в суде: это сильно зависело от политических раскладов и общественного мнения. Известно, после 1864 года, когда были созданы новые судебные учреждения, правительство постоянно находилось в контре со своим судом; консервативная публицистика называла суд «государством в государстве», «судейской республикой», подчеркивала чрезмерную либеральность судей и т.д. Разве можно сказать то же самое о современном российском суде?
Капитальная ломка
Как мы пришли к этой ситуации? Большевики создали ее практически моментально, уже 22 ноября 1917 года упразднив все судебные учреждения Российской империи (впоследствии это их решение получит название «Декрет о суде № 1»). Кассационный сенат и все прочие учреждения были закрыты в один день с помощью «матросов железняков». Кстати, не только Октябрьская, но и Февральская революция началась именно с разгрома суда. Первой жертвой Февраля стал Санкт-Петербургский окружной суд, который был открыт в 1866 году лично Александром II первым среди всех новых судов. То есть был разгромлен институт, являвшийся символом всей новой России и великих реформ.
После Октября маховик раскрутился. Ссылаться на законы свергнутых правительств (имелось в виду и царское, и Временное) можно было только до ноября 1918 года и только в том случае, если их нормы не противоречили правосознанию трудящихся. Ну а в 1918 году эти законы были окончательно отвергнуты, вместо них восторжествовало революционное самосознание и хаотичные декреты советской власти. Впрочем, сама жизнь в условиях Гражданской войны и военного коммунизма примитивизировалась так, что мы из Европы как будто попали в каменный век — с соответствующим запросом на право и процедуру.
Разумеется, такой же разгром ожидал юридические кадры Российской империи. За исключением нескольких десятков человек, примкнувших к большевикам (например, Петра Стучки — «отца» советского суда), все оказались без работы. В Империи было два ведущих вуза юридического профиля: Училище правоведения в Санкт-Петербурге и Царскосельский (впоследствии Александровский) лицей, причем их выпускники занимали очень высокие юридические посты в Империи. Историк Сергей Волков проанализировал данные биографий 735 лицеистов, бывших в Российской империи на момент 1917 года, чьи время и обстоятельства смерти известны достоверно. И выясняется, что 10 процентов из них погибли в 1918–1920 годах, 88 процентов оказались в эмиграции и только 2 процента (то есть 12 человек) умерли в СССР. Некоторые из последних выпусков Лицея дают до 100 процентов эмигрировавших и погибших. То же касается и Училища правоведения: из 620 выпускников, чья судьба доподлинно известна, 10 процентов погибли в 1918–1920 годах в белой армии, 13 процентов — от голода и холода в 1918–1920 годах, почти 70 процентов эмигрировали и только 7 процентов достоверно умерли в СССР после Гражданской войны, при этом больше половины из них — в тюрьмах, лагерях или расстреляны. Думаю, комментировать тут что-либо излишне. Максимум, на что могли рассчитывать старые опытные специалисты, это должность юрисконсульта при каком-то советском учреждении, то есть на работу заведомо ниже своей квалификации.
А кто же стал разрешать споры после того, как ушли эти люди? Элита юридической профессии — это, конечно же, судьи, поэтому посмотрим внимательнее на них. Советские судьи (особенно в первые годы) были сплошь и рядом выходцами из пролетариата, обеспечивавшими лишь первобытное качество правосудия, но этому давалось идеологическое объяснение. Когда Советы вынужденно открыли дорогу нэпу, выяснилось, что без специализированных судов или трибуналов для решения хозяйственных споров не обойтись. Разумеется, народные суды, состоявшие из солдат, матросов и активистов партии, не могли ориентироваться в реальности нэпа, многие хозяйственники требовали восстановления хотя бы подобия дореволюционных институтов, например в форме арбитражных комиссий. Но идеологи советской власти очень чутко следили за тем, чтобы не произошло возврата назад. Если в области материального права они вынуждены были кое-что заимствовать из разрушенного (в частности, в 1923 году был принят Гражданский кодекс, который в некоторых вопросах напоминал 10-й том Свода законов Российской империи, посвященный гражданскому праву), то в области судоустройства из прошлого не заимствовалось фактически ничего. Идея, что кухарка может управлять государством, а любой работяга — быть судьей, крепко сидела в головах большевиков. Чтобы не говорить от себя, я путем цитирования дам почувствовать вкус тогдашних рассуждений. А именно — приведу строки из статьи 1923 года «Арбитражная комиссия или народный суд?» красного профессора Малицкого (за его авторством в РГБ значится еще брошюра с характерным названием «ЧК и ГПУ»). «В том-то и дело, что наши хозяйственники не представляют себе с достаточной ясностью, что наш народный суд — это не дореволюционный окружной суд и не судебная палата, состоявшая из чиновников-формалистов, людей "20 числа" (тогда при царе платили жалованье.— А.В.), дышавших вонючим воздухом своих прогнивших канцелярий, и совершенно чуждых действительной жизни и ее хозяйственным потребностям. Наш народный судья — это прежде всего человек с фабрики, с завода, отлично разбирающийся в вопросах хозяйства госпредприятия,— вещал Малицкий. — <...> Не доверять народному суду в разрешении имущественных споров между двумя фабриками, двумя трестами, двумя госпредприятиями и госучреждениями — значит не разбираться в вопросах советского строительства и суда или преследовать втайне какие-то неизвестные нам цели. <...> Знают ли наши хозяйственники, что их прежние присяжные поверенные никогда ни одним словом не обмолвились о хозяйственно целесообразном разрешении спора, а все время ссылаются в своих объяснениях на статьи Гражданского кодекса, но при этом, к сожалению, толкуют их строго буквально, буржуазно-догматически, вне реальной обстановки их применения». В этом тексте прекрасно многое: и риторический вопрос о «тайных целях», задаваемый с ленинским прищуром, и принципиальная мысль о торжестве целесообразности над правом. Право — всегда формально, но большевики, спекулируя на ненависти к «крючкотворам-юристам», подменяли реальную законность политической целесообразностью, то есть произволом.
Вы скажете, что со временем что-то менялось. Это так. В силу неизбежности от большевистской утопии приходилось местами отступать: в частности, были созданы и арбитражные комиссии, которые до этого так громили (хотя они функционировали принципиально иначе, чем коммерческие суды при царе). Однако юридическое образование даже полвека спустя не считалось для судей обязательным, и еще в начале 1970-х Верховным судом СССР руководил партийный функционер, не имевший вообще никакого юридического образования (А.Ф. Горкин). И это не наше далекое прошлое, это, считай, вчерашний день.
Эшелонированное бесправие
Давайте, однако, предположим, что образовательный уровень — не главное. В конце концов, его так или иначе можно «подтянуть». Интереснее поговорить о самом характерном свойстве советского правосудия — оценке любого спора с точки зрения целесообразности. Именно из-за этого было совершенно невозможно, чтобы верховная власть в лице органов КПСС потерпела неудачу в судах, не добившись того результата, которого она хочет. Чтобы обеспечить этот результат, принимались определенные меры.
Во-первых, судьи, как я уже сказал, были членами партии и избирались на фейковых выборах: верховного судью «избирал» Верховный совет, областного — областной совет, районного — граждане района, но им не предлагалось альтернатив. А во-вторых, существовало множество проверочных инстанций, которые должны были в любом случае обеспечить тот исход, который требовался политбюро ЦК КПСС. Мало того, что все приговоры по политически чувствительным делам решались заранее в политбюро: суд всегда имел инструкцию (как правило, телефонную), как ему поступить. Но даже в том случае, если бы какой-нибудь суд решил взбунтоваться и не принять нужного решения, его приговор был бы тут же изменен надзорными инстанциями. Над первой инстанцией существовало еще 5 уровней проверки: кассационная инстанция и четыре надзорных. Исход дела всегда было кому поправить — до самого верха, ну а наверху сидели уже такие надежные люди, которые точно не испортили бы праздника. Помимо всего прочего это воспитывало в судьях чувство личной безответственности: от твоего решения поступать по правде, даже ценой самопожертвования, ничего не зависит — все равно все будет так, как надо. И еще один примечательный факт: функционирование такой системы требовало «отрицательного отбора», то есть наверху, в надзорных инстанциях точно должны были сидеть люди, готовые не считаться с «формальностями». Были ли судьи до 1917 года идеальными? Нет. Однако в случае обжалования и передачи дела вышестоящей инстанции шансы на его справедливое разбирательство скорее повышались, а не снижались. В Советском Союзе ситуация была обратной.
Наконец, довершали систему советского эшелонированного бесправия такие специфические, неизвестные прежней русской судебной системе институты, как надзорные протесты судебных иерархов. Руководители системы (например, заместитель генерального прокурора или зампредседателя Верховного суда) могли по собственной инициативе подать протест на какое-то дело в соответствующую судебную инстанцию с целью его пересмотра. То есть специальные, «отборные» люди (генералы судебной системы и прокуратуры) вмешивались и добивались пересмотра дела, даже если ни одна сторона на том не настаивала. А если сама сторона хотела нечто пересмотреть, она должна была обращаться с жалобой не напрямую в надзорную инстанцию, а писать письмо тому же «генералу» — высокопоставленному прокурору или руководителю Верховного суда, чтобы он принес на решение свой протест. Таким образом, обеспечивался полный контроль над судебной системой — даже с избытком.
Существенно, что вся эта система партийного контроля пребывала как бы «в тени». Все суды выносили решения от своего имени, ссылаться на инструкции партийных органов было категорически запрещено (и напротив: в Российской империи, напомним, нужные дела просто и откровенно изымались царским указом из обычных судов). Если первая статья Свода законов Российской империи гласила ясно и четко, что «император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный, повиноваться ему не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает», то советское «самодержавие» таковым себя не признавало. Царские порядки могли возмущать, но одного про них нельзя было сказать: что они были лицемерными. В этом отношении лицемерное и теневое «правосудие» Советского Союза отличалось от правосудия любого, даже самого деспотического государства, где правила игры (пусть и весьма предосудительные) сформулированы ясно и четко.
Русское право
Тем более удручает тот факт, что в глазах большинства соотечественников советское право — и есть наша традиция. Людям просто сложно представить, что Россия когда-то не просто гордилась своим судом, а имела один из самых совершенных в Европе судов. Правовая система Империи вела свое начало с Соборного уложения 1648 года и к моменту своей гибели насчитывала 270 лет. Российское законодательство было глубоко историчным в том смысле, что развивалось путем наслоения указов, законов и главное — прецедентов, не отрицая предыдущих норм, но добавляя к ним новые. Чтобы было понятнее, можно привести в пример английскую правовую систему, которая и по сей день дорожит своим прошлым и оглядывается на традицию — мы были во многом похожи.
Огромную роль в судопроизводстве Российской империи играли прецеденты — не только судебные, но и административные. Уже Боярская дума, рассуживая определенные дела, оформляла свои решения как «новоуказные статьи», то есть добавляла к старым указам некие новые положения, заполнявшие обнаружившиеся в ходе рассмотрения дела пробелы в регулировании. Эти дополнения проистекали из конкретных споров. То же самое впоследствии делал и Правительствующий сенат, который сменил Боярскую думу в качестве высшего судебного органа государства. Когда российское право было вновь кодифицировано при Николае I в 1832 году, к каждой (!) норме Свода законов (а все эти нормы были перенесены из прежнего правового материала) указывались ее источники — те или иные указы XVII и XVIII веков, конкретные дела и прецеденты. Что еще важнее: само право в судах толковалось именно по источникам, а не только по чеканным формулировкам законов. Подробное рассмотрение источников (иногда противоречащих друг другу) было сложной умственной работой.
Наконец, историчность правовой системы Российской империи проявлялась в том, что огромную роль здесь играло местное, или обычное, право. Когда Россия присоединяла новые земли — Прибалтику, Польшу, Финляндию, Бессарабию,— она сохраняла там прежние правовые системы. Буквально: они оставались ровно такими, какими были, только сверху надстраивалась русская политическая власть. Единственное исключение имело место в Западном крае, на территории бывшей Речи Посполитой, когда в 1840 году Николай I прекратил там действие Литовского статута, то есть старинного свода польско-литовского права. Но и то: были сохранены многие традиционные институты этого статута, касавшиеся жизни людей. Поэтому, скажем, в Черниговской и Полтавской губерниях действовала своя система местного права: там были такие особенности гражданского права, которые не встречались больше нигде в России (например, улиточные записи: запись, по которой можно было уступить третьему лицу свое право на наследство). Мы не обнаружим в Российской империи желания привести правовую систему окраин в соответствие с единым образцом, так как право мыслилось как нечто, существующее и формирующееся в истории, это не набор навязанных сверху абстрактных правил, а кодифицированные привычки и обычаи конкретных людей. Право равно правосознанию. Поэтому в Прибалтике еще в начале ХХ века действовало Остзейское право (вообще немецкое по своему происхождению) и Рижское городское право, в Польше — Кодекс Наполеона, то есть польско-французское право (несмотря на то что Наполеон был врагом России, его Кодекс оставался действующим в Царстве Польском). В Бессарабии вообще действовали старые византийские законы! В начале ХХ века Правительствующий сенат, чтобы разобрать местные споры, обращался к законам византийских басилевсов…
Подчеркну: в русском праве роль прецедентов, то есть исторического мышления в правосудии, была колоссальной, несмотря на то что формально мы были ближе к континентальной правовой системе (то есть старались кодифицировать нормативный материал). Однако любая норма должна была применяться в соответствии со сложившейся судебной практикой.
А что же советское право? Оно, как несложно догадаться, упраздняло все местные различия: кодексы для всех одинаковые, порядки общие, прошлое отрицается и отметается напрочь. Сила прецедентов отрицается, законы пишутся с чистого листа, всякое историческое толкование отсутствует. Советский суд никогда не обращался при разрешении споров к законодательным источникам и материалам. Фактически был уничтожен сам институт пояснительных записок к законам, которые в системе русского права занимали важнейшее место. Сами законы перед их принятием практически не обсуждались общественностью, падали на народ буквально «сверху». Да, иногда можно было критиковать советские законы в прессе, но при соблюдении двух условий: критиковалась явно устаревшая, неадекватная норма и при этом не должна была отрицаться ее целесообразность на определенном этапе. Я не буду лишний раз говорить, как это отличалось от ситуации в Российской империи. Приведу только один факт: когда при Александре III, весьма авторитарном правителе, был принят закон, заменявший во внутренних губерниях мировые суды земскими участковыми начальниками, вся подцензурная пресса — «Судебная газета», «Журнал гражданского и уголовного права» и другие — разразилась язвительной критикой. А ведь это был закон, про который было известно, что самодержец оказывал ему всяческую поддержку.
Застряли на век
Нельзя сказать, чтобы в 1990-х годах не было попыток возродить русскую правовую традицию. Но позволю себе заметить, что они все оказались абортивными. И история с особыми мнениями судей — только верхушка айсберга.
Можно вспомнить еще один яркий пример: восстановление института присяжных согласно концепции судебной реформы 1991 года, которую писали Вицин, Пашин, Морщакова и другие. Да, вроде бы институт у нас такой есть. Но его применение ни в какое сравнение не идет с тем, что было в Российской империи. Согласно реформе 1864 года, этим судом судилось 70 процентов (!) уголовных дел, которые находились в подсудности окружных судов, а это наиболее важные уголовные дела. В результате в начале ХХ века Россия (вместе с США) была мировым лидером по использованию суда присяжных. В год 40–44 тысячи процессов Российской империи проходили через суд присяжных — это в разы больше, чем в любой европейской стране того времени. А в Российской Федерации, несмотря на восстановление института, в год присяжными рассматривается не более 1400 дел — и это еще лучший показатель за все время. В 2010-е годы, например, через суд присяжных проходило в среднем примерно 400 дел на всю страну, притом что население РФ сопоставимо по количеству с населением Российской империи начала ХХ века. Верховный суд предрек не так давно, что число дел, рассматриваемых судом присяжных, достигнет 15 тысяч процессов в год, но воз и ныне там.
Где-то искусственный характер преемственности виден еще лучше. Скажем, при советской власти существовал государственный арбитраж, в 90-е годы его решили преобразовать в арбитражные суды, хотя это название до сих пор вводит в ступор любого иностранца: во всем мире арбитраж — это третейский суд, не государственный. Но хотелось сохранить в изменившихся условиях советский государственный арбитраж и притом перекинуть какой-то мостик к дореволюционной традиции, чтобы выглядеть вполне «буржуазно». Соответственно, арбитражные суды попытались подверстать к коммерческим судам старой России: были такие в крупных городах, где купечество могло выбирать своих судей для разрешения тяжб между предпринимателями. На поверку общего между двумя институтами нет ничего, к тому же старые коммерческие суды к 1917 году в основном сошли на нет — это были суды сословные, не отвечающие требованиям времени. Так что большинство разговоров про русскую правовую систему служило разве что декоративным целям.
Подытоживая, замечу, что мы по-прежнему живем в рамках советской правовой традиции, несмотря на переход к рынку и капитализму. А теперь еще и развитие обратилось вспять.
Я не спорю, что большая часть наших законов — это вполне нормальные законы современного рыночного общества, заимствованные преимущественно из западной практики (русская была сломана и основательно забыта). Но советская традиция живет не в законах, а в судах и правоприменении, что куда важнее. Какое бы хорошее ни было у нас материальное право, как бы ни совершенствовался Гражданский кодекс, это все лишенная исторической традиции абстракция, спущенная на примитивное правосознание, сплющенное и, позволю себе сказать, проституированное за годы советской власти.
Давайте посмотрим на прецеденты, или, лучше, симптомы, позволяющие распознать реальную, а не показную сущность системы. Вы, может быть, замечали, что президент РФ дает поручения Верховному суду? На сайте президента в списке поручений бывают указаны их адресаты и ответственные: в частности, Верховный суд в лице его председателя Лебедева и прокуратура в лице генпрокурора. Сам Вячеслав Михайлович Лебедев не так давно позволил себе прямолинейно заявить: «Пленум Верховного суда принял такое-то постановление во исполнение поручения президента». Эта вещь абсолютно немыслимая в эпоху Судебных уставов (1864–1917): цари никогда никаких поручений судам не давали. А в советской традиции — это норма, потому что советское правительство и ЦК КПСС регулярно давали поручения Верховному суду, это не скрывалось, ибо никакого разделения властей СССР не признавал в принципе. Были судебные органы, но не было судебной власти. Кстати, посмотрите, как часто наши публицисты по инерции пишут не «судебная власть», а «судебные органы», и поймете, как сильна еще советская закалка. Ведь орган — это всегда часть организма, а не отдельный независимый организм.
Другой прецедент. В 2018 году Верховный суд очень торжественно отметил свое 95-летие: с приглашением президента и других политиков первого ранга. Дата не очень-то круглая, но ясно, к чему апеллируют — к 1923 году, когда при Ленине (и уже Сталине) был создан Верховный суд РСФСР. Получается, наш суд сам и добровольно возводит свою историю к эпохе раннего большевизма, а не к реформе 1864-го, впервые создавшей общий для всей страны верховный суд в виде кассационных департаментов Сената. Тут же заметим, что совсем недавно исполнилось 150 лет великой судебной реформе — в 2014 году, а в 2016 году исполнилось 150 лет судебным учреждениям, которые были открыты вследствие этой реформы. Уж какой красивый повод! Но оба юбилея — 2014 и 2016 годов — прошли совершенно незамеченными нашими судебными институциями. Что доказывает полное забвение русской правовой традиции, наш разрыв с ней в ХХ веке.
Остается, однако, надеяться и уповать на время. Запрет особых мнений ведь тоже возник не на пустом месте: эти особые мнения стали учащаться, возник запрос на иные, несоветские подходы. Напомню, что в декабре прошлого года судья Конституционного суда Константин Арановский в своем особом мнении дерзнул прямо осудить советскую власть как незаконную. Этот документ останется характернейшим свидетельством эпохи. В какой-то момент осознание последствий ломки 1917 года должно наступить, а попранное большевиками право — восстановиться хотя бы как принцип. Понятно, что это очень сложный и болезненный процесс, который может потребовать многого, даже некоей (пускай частичной и символической) реституции. Но рано или поздно переоценку случившегося придется провести, потому что советский нож воткнут в спину нашему суду и не дает ему разогнуться: к невероятному ограблению собственного народа и попранию права в ХХ веке мы будем возвращаться снова и снова. Ведь где-то там — в отказе от своей истории, честного суда, уважения к закону, в неверии, что у нас было и может быть иначе,— коренятся и экономическая стагнация, и гражданская апатия, и личная неустроенность.