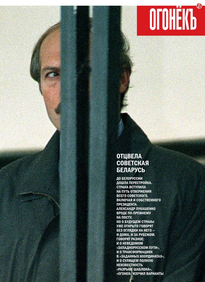Люди, которые пришли убивать в Париж, хорошо понимали, что этот город принадлежать им никогда не будет. Они — и до, и после 13 ноября — в нем отверженные. Собственно, поэтому они в него и стреляли — чтобы убить тех, кто живет иначе. Ну а потом, поскольку сказать больше им было уже совершенно нечего, то и — умереть. Париж как праздник никогда не был с ними. Останется ли он с нами? Переживет ли то, что произошло?
"Огонек" — о Париже, перенесшем страшный удар, о его последствиях для Европы, о черном террористическом интернационале
Это мой квартал. По улице Фонтен-о-Руа, которую в эти дни вспоминают во всех газетах, я вожу сына в школу. "До вечера, малыш", целую, перекидываюсь парой слов с другими родителями — перед школой всегда стоит толпа. Иду к площади Республики, там моя станция метро. По дороге сажусь в кафе La Bonne Biere. Сегодня тоже школа — кафе — метро. Но сегодня все по-другому. В пятницу, 13 ноября, в нашем районе убили людей — в кафе, в соседнем театре "Батаклан", в пиццерии.
Останавливаться у школы не разрешено, родители толпятся чуть дальше, на перекрестке. Но главное — кафе. Вон оно, мое красное плюшевое кресло у окна. На стекле — следы пуль. Ровно на уровне сидящего человека. Кто сидел в пятницу вечером на моем месте? Терраса, цветы, свечи, рисунки, плакат "Я — Париж", еще один — "Во имя кого?", венки из осенних листьев. В Париже стоит редкая по красоте осень. Растерянно выглядываю в пустоте знакомых официантов, я знаю каждого, только в пятницу утром мы обсуждали недавно произведенный здесь ремонт. Живы ли они?
Если идти не к площади Республики, где всегда много народу, а к соседнему метро, то мой путь лежит через сквер Батаклан и концертный зал. В "Батаклане" погиб мой коллега, сотрудник нашего медиахолдинга, оператор. У него остался девятилетний мальчик. Восточнее моего дома — улица Шаронн, там тоже стреляли. Севернее — парк "Бют Шомон", один из самых красивых в Париже. Его именем называют банду, из которой вышли убийцы сотрудников "Шарли Эбдо". Западнее — бульвар Вольтера. Стреляли и там. Это мой квартал, мой город. Мне здесь жить.
Неблагополучный округ
Как жить — это другой вопрос. Ловлю себя на том, что объясняю ребенку по дороге в школу: "Если увидишь, что бежит толпа, старайся войти в какую-нибудь открытую дверь". Говорю себе: ну вот, пришло время продвигать маленькие военные хитрости в нашу жизнь. Но продвигать нужно, потому что вчера по ложной тревоге, уже через день после терактов, с площади Республики под окнами в панике бежала толпа, перепугав и сына, и его приятеля. Утром вопрос: "Мама, а сегодня не было терактов?"
Звонят из Москвы: "Что у вас происходит в арабских, неблагополучных кварталах? Появилась ли ненависть?" У нас нет арабских кварталов. Мой квартал, граница 10, 11 и 20-го округов, восток Парижа, видимо, и есть тот самый, "неблагополучный". Я считываю его национальный состав по ресторанам и магазинам. Много арабских мясных лавок. Прекрасная баранина. Копилки для мелочи "на помощь палестинским детям". Интересно, достаются ли детям эти монетки? Давно ставшая китайской улица Бельвиль, на которой родилась Эдит Пиаф. Кошерная "У Нани", где продают торт, точь-в-точь киевский. Турецкая бакалея, рядом булочная, которую держит "лучший кондитер Франции", великолепные эклеры. Итальянский магазин со свежей моцареллой и домашней пастой. Кооператив органической еды — это для нашей буржуазной молодежи. Бары, где та же молодежь гуляет по пятницам до утра, запруживая улицы так, что не проехать машинам. Рынок, на котором меня знают все торговцы, но не очень понимают, куда меня отнести, поэтому кричат: "Бери, арабы это едят! И евреи едят! И французы тоже — бери!"
Большая, отбеленная, аккуратная мечеть. Огромный католический собор, на паперти которого снимали "Пену дней". Четыре синагоги. Еврейская школа для девочек. Еврейский детский сад. И еще один разговор с сыном: "Посмотри на этих детей, каждый день они идут в школу через строй автоматчиков. Думаешь, это справедливо?" Объяснять ничего не нужно, о расстреле еврейской школы в Тулузе в 2012 году он помнит хорошо. В школе рассказывают обо всем, отменяют другие уроки и рассказывают.
Между моей улицей и кладбищем Пер Лашез — "гетто". Это социальное жилье, красивое, новое, чистое. Вдоль улиц — акации и сакуры. Здесь находится музыкальная школа нашего округа, парк, школа, лицей. Вечерами у парка стоят группками подростки. Из домов, бывает, выводят кого-нибудь в наручниках и сажают в полицейскую машину. "Не боитесь ходить здесь ночью?" — спрашивает коллега из Москвы, которую я веду сюда посмотреть на "неблагополучный квартал". "Так это все? — разочарованно тянет она.— Это неинтересно! Здесь нет фактуры!" Других неблагополучных кварталов у нас нет. Это мой квартал, исторический, шумный, грязный, разгульный, мультикультурный. В нем кипит жизнь. Это в нее стреляли.
Что не изменилось
В субботу утром иду пешком к театру "Батаклан". Ноги несут сами. Жизнь изменилась, но я еще не знаю, как именно, и мне надо посмотреть своими глазами, увидеть, пощупать. Боюсь смотреть на людей, боюсь увидеть боль, но постепенно осмеливаюсь и поднимаю глаза. Парижане не изменились. Дама прогуливает сразу трех аристократических до кончиков хвостов левреток среди операторов всех телекомпаний мира. Другая дама толкает сквозь толпу ярко-розовый велосипед, в корзинке над передним колесом — овощи. Соседнее кафе раздает журналистам кофе. Те провели здесь тяжелую ночь.
Не изменились и сами кафе. Террасы полны. Вечером уже некуда сесть. Гастрономический гид Fooding проводит во вторник акцию "все на террасы". Но хэштег с этим призывом ходил уже с субботы. Да и не в призывах дело. Стреляли именно в парижский образ жизни — в право сидеть на террасах, пить вино, целоваться. Никогда еще в Париже столько не целовались. "Скоро начнется международная конференция по климату, а у нас потепление атмосферы от любви",— смеется сатирическая газета Le Gorafi. Сталкиваюсь на улицах с дальним приятелем — бросаемся друг другу в объятия. Смущаемся. "Нам это сейчас нужно",— оправдывается он. Это Париж, здесь знают, что от смерти спасает объятие.
И еще смех. Как смеялись над дураками-свечкодуями рожи на стенах средневековых соборов, так смеются сейчас карикатуры. Одна за другой, их все больше, в соцсетях и просто на стенах домов, на асфальте. "Шарли", конечно, и Плантю из "Монда", и все остальные, с крупными именами и анонимные. Самая сильная, конечно, вот эта: в небесах носятся души убитых с багетами под мышкой: "Жизнь продолжается!" Но есть и другие, просто смешные. Пьяный муж возвращается домой под утро: "Где ты шлялся?" — "Выпивал с друзьями. На террасе!" — "Ах, какой ты смелый, дорогой! Вот это поступок!" И еще одна карикатура, в ней и насмешка над собой, и вызов: "Нет такого террориста, который помешает мне выпить кофе на террасе за пять евро!" Парижане смеются сквозь слезы. Нет, они не изменились.
Не изменились и улицы, шумные, тесные, быстрые, не пустеющие. Неправда, что город пуст, он кипит. Неправда, что Париж состоит теперь из блокпостов. Полиции на удивление немного. Может, в штатском? От "Батаклана" иду к площади Вогезов, потом к Сене. Старые стены, помнящие Варфоломеевскую ночь. Упиваюсь городом, его красотой, его силой, его светом. Париж маленький, его можно насквозь пройти пешком. Может быть, поэтому среди погибших, раненых, среди вышедших из "Батаклана" покурить и чудом спасшихся в ту пятницу, 13 ноября, у каждого есть знакомый, хотя бы через одно рукопожатие. Погиб один мой коллега, и выжил еще один, и не просто выжил, но вынес раненую девушку. Сестра соседки, однокурсник приятеля, охранник из соседнего лицея, журналист, которого только вчера читали в Les Inrocks, повар ресторана в Нейи, у которого обедали в прошлом месяце, дочь хозяина известной мясной лавки, а еще студент инженерной школы, адвокат, дизайнер, маркетолог, преподаватель архитектурного факультета,— мы их не знали, но каждый из них похож на нас и мог бы быть любым из нас.
Появилась ли ненависть? Нет, здесь тоже ничего не изменилось. Нет, парижане не линчуют мусульман. "Они именно этого и хотят,— беседуют в метро о намерениях террористов три белых воротничка.— Не получат". Две марокканские бабушки в платках по брови пристроились с раскладным столиком прямо на углу площади Республики у грузовика CNN с колоссальной спутниковой антенной. Продают чай с мятой и блинчики "тысяча дырок". А что, журналистам же отсюда не уйти, а есть хочется, вот и можно подзаработать. Жизнь есть жизнь. И нет, мусульмане не радуются тому, что произошло. "Пусть бы они тысячу раз сгорели в аду",— ругается берберка Линда, которая держит на моей улице парикмахерскую. Ей не нравится "Шарли", но чтобы убивать — она не согласна. И это тоже не изменилось.
Политиков ругают еще сильнее. Что за парижанин, если он не ворчит на весь свет? Но и здесь все по-прежнему. Кто ругал левых, продолжает кричать, что хорошо бы надеть на всех занесенных в полицейский список S ("государственная безопасность") электронные браслеты. Кто ругал правых, снова призывает не поддаваться панике и не замыкаться в своих религиозных и национальных группах. До хрипа спорят об этом два моих приятеля. Удивительно, что преподаватель музыки требует браслетов, а банкир против. Но разъединяться и обосабливаться никто и не думает. У парижан есть сильный лидер — Париж, вокруг него и сплотились.
Что изменилось
Все на месте, но коды считываются иначе. Афиша Музея романтической жизни в метро объявляет выставку "Лицо страха". Я проходила мимо, по крайней мере, уже десять раз, разве в Париже обойдешь все выставки! Но теперь притормаживаю. Так вот оно какое было, лицо страха в XIX веке. Девушка в белой тунике, расширенные зрачки. Теперь оно другое. Вернее, у него нет лица, только пояс шахида.
Другой будет, начиная с субботы, 14 ноября, наша жизнь. У детей в школе отменили походы на стадион и в бассейн. В метро, на входе, проверяют билеты, через турникет никто не прыгает. А вот и полиция — на вокзалах. На входе в наш офис поставили охранников в бронежилетах. Интересно, что в январе, после расстрела "Шарли", нам, журналистам, "группе риска", выделили солдат и полицейских. Теперь группа риска — не только мы, но и вся Франция. "Это война",— сказал премьер-министр Мануэль Вальс. Так вот что изменилось на парижской улице, что неуловимо чувствовалось с утра в субботу, не давало поднять глаза. Война.
Разве война? Молодой человек, складывая полотенце, выходит из спортзала. Лицеистка бежит, толкает прохожих своей сумкой. Прохожие даже не ругаются. Коляски. Собаки. Дворники. Наша молодежь, парижские невыносимые хипстеры. Их длинные волосы, вязаные береты, платки, сигареты. Их вечный бокал красного на террасе. Их хриплые споры о Сартре и Селине. Террористы объясняли, что убивают за самолеты в небе Сирии. Безумцы, не знали даже, на что их посылали. Зато парижане, проснувшись в субботу, поняли это сразу. Их пришли убивать не за то, что Франция сделала, а за то, что она такое. За то, что Париж и есть — эта молодежь, ругающая правительство и поющая "Марсельезу", эти второгодники с их разговорами о философии, эти отличники, будущие главы предприятий, с их завиральными идеями и планами на лето, их подружки с яркой помадой и правом на черные чулки и короткую юбку. Недаром минуту молчания французский президент пришел провести в Сорбонну, к студентам. Этот дух вольницы не застрелить. Потому что он и есть — Париж, мой город.