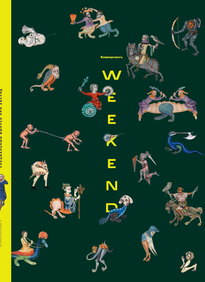У театра парадоксальные отношения со временем. Театру нечем и некуда устаревать, его произведение не является единицей хранения и не живет во времени: он начинается и заканчивается одним вечером, никакого состояния, кроме сегодняшнего, у него нет. Спектакль идет сегодня, завтра он будет другим.
Театр не хранит прошлое, он с ним играет. Вторгаясь в классический текст, современный театр вступает с ним в диалог, который может быть глубоким или поверхностным, остроумным или плоским, агрессивным или дружелюбным. В чем особенности и свойства этого диалога? Или, если спросить иначе: каким образом и зачем театр посягает на автора?
Интерпретируя классику, театр вызывает неизменный ажиотаж — частью восторженный, частью раздраженный. Раздражены — вот уже второе столетие — те, кто приходит в театр за Чеховым, Шекспиром, Гоголем, Верди, а обнаруживает в нем Уилсона, Брука, Митчелл, Серебренникова, Чернякова.
На возглас «это не Чехов!» (Шекспир, Горький) есть два возможных ответа. Первый — «ну и что?». Второй — «именно что Чехов» (Шекспир, Горький). Искусство даже допускает одновременное существование обоих вариантов, которые друг друга вообще-то взаимно исключают. И сакраментальное «это не…» — изначально не цензурирующий окрик, а озвученная рефлексия о природе и смысле любого искусства. Знак и манифест этой рефлексии почти 90 лет назад создал Рене Магритт. Вещь, сменившая среду обитания, не может остаться равна себе, будь то трубка, ставшая картиной, или пьеса, ставшая спектаклем. (И тот припорошенный пылью Чехов в записи советского телевидения 1973 года, которого иные считают эталоном, на самом деле точно такой же «нечехов», как и тот, которого вам предлагают самые радикальные реформаторы сцены.) Театр — самое диалектическое из искусств, которое из утверждения и отрицания извлекает свою энергию, и способы такого извлечения разнообразны.
настоящее вместо прошедшего
Заметнее всего, как это часто бывает, самое несущественное. Вы пришли на «Трех сестер», а там Вершинин Маше эсэмэсками в любви объясняется, в «Венецианском купце» купцы в офисных костюмах, в «Горе от ума» фамусовская Москва выложена собянинской плиткой. В точности это или нечто подобное происходит в сотнях выдающихся спектаклей и в тысячах бездарных — и они никогда не бывают выдающимися или бездарными только по причине того, что там происходит вот это.
В большинстве случаев театр приближает время на сцене к времени в партере из очень простого соображения. Ни Горький, ни Чехов, ни Стриндберг, ни Островский не писали пьес, действие которых происходит 100 или 150 лет назад. Если театр хочет остаться в художественном времени автора, которое подразумевается или прямо заявлено как «наши дни», он должен уйти из его фактического времени и отправиться в фактическое время зрительного зала. Последствия могут быть чрезвычайно разнообразны.
например:
«Венецианский купец», режиссер Петер Цадек, «Берлинер ансамбль», 1990
Свою версию пьесы Шекспира Петер Цадек сделал, уже будучи, так сказать, классиком европейского театрального радикализма. Режиссер не стал переосмысливать пьесу, он буквально «переодел» ее. Все, что происходило в шекспировской Венеции, может произойти сегодня на Нью-Йоркской бирже, говорил Цадек,— и собственно этому был посвящен его спектакль. Конфликт Шейлока с венецианским купцом Антонио разыгрывался в тональности фильма «Уолл-стрит», который Цадек вполне намеренно цитировал. Биржевые маклеры, стая скучных серых людей в серых костюмах и белых рубашках, произносили шекспировские тексты как биржевые сводки — и сухость этой декламации не только не убивала текст, но лишь подчеркивала его напряжение.
определенное вместо условного
Машина времени действует и в обратную сторону. Самое парадоксальное «осовременивание» — то, которое автора читает совершенно буквально. Если режиссер всерьез разместит Эльсинор в исторической средневековой Дании (или в елизаветинской Англии), подтвержденной источниками и иконографией, непременно раздастся «это не Шекспир». Это и правда не Шекспир. Автор «Гамлета» ничего такого в виду не имел.
Но вот «Горе от ума» разыгрывается во вполне документальной грибоедовской Москве, фарсы Шницлера буквально портретируют югендстильную Вену, а у Островского Замоскворечье, судя по всему, как живое. Однако если воспроизвести эту документалку на сцене, получается страшно современный и по-своему очень дискомфортный спектакль.
Дискомфорт возникает тогда, когда театр размещает классический сюжет в любом конкретном времени (в частности, и в том, которое заявлено «у автора»). Делая время не кулисой, а обстоятельством действия, театр наделяет сиюминутное смыслом и логикой, убирает барьер, который позволяет зрителю думать, что это не про него. Рано или поздно всегда про него.
Единственное сравнительно безопасное время на сцене — время «вообще», то есть такой спектакль, в котором время значения не имеет. Но в сегодняшнем искусстве оно почти всегда имеет значение. Если ХХ век с чем-то и расстался, так это с представлением о том, что есть вечная человеческая природа и безвременные страсти или конфликты.
например:
«Мария Стюарт», режиссер Джон Копли, театр «Ковент-Гарден», 1977
Самые впечатляющие и последовательные примеры «историзации» традиционно можно найти на оперной сцене, просто потому, что этот подход предполагает большие бюджеты, высокую квалификацию производственных цехов и чрезвычайно длительный подготовительный период. Неизвестно в точности, сколько времени понадобилось режиссеру Копли и театру «Ковент-Гарден» на то, чтобы собрать историческую иконографию для оперы Доницетти, которая, разумеется, на такую точность совсем не была рассчитана,— как и пьеса Шиллера, на основе которой было написано либретто. В спектакле Копли у каждого кружевного воротничка и каждого кресла был подтвержденный источник в картинных галереях и альбомах, гримы были портретными, место и время действия — Лондон и замок Фотерингей, 1587 год, не были никакой условностью. И в этом антураже неожиданно заметно и важно оказывалось то, что конфликт Марии и Елизаветы — это конфликт двух вполне немолодых для своей эпохи женщин, участвующих не столько в трагедии страстей и характеров, сколько в трагедии исторической. В этом контексте концептуальным жестом выглядело и то, что оперу Доницетти у Копли исполняли на английском языке — хотя к тому времени итальянские оперы в Ковент-Гарден уже пели на языке оригинала.
действительное вместо завершенного
Все составляющие пьесы — характеры, обстоятельства и сюжеты — имеют срок годности. При этом у каждого автора со временем свои собственные отношения: герои Уайльда за 30 лет изменились гораздо больше, чем герои Шиллера за два века и герои Шекспира — за четыре. Вы можете считать, что любовь Фердинанда и Луизы из «Коварства и любви» — общепонятное чувство, но сюжет состоит не из любви, а из возводимых перед нею препятствий. А они у Шиллера в основном рождаются из сословных принципов и понятий, которые современный европейский зал просто не готов считать основой для драматической коллизии. Эмоционально не готов. Для того чтобы привести в соответствие разум и чувства зрителя, театр и отправляется на поиски современных адресов, по которым можно «поселить» классические сюжеты, найти новые основания для драматической коллизии. И это не литературная, а конструкторская задача: любая перестановка имеет последствия, ружье, не висящее на сцене в первом акте, в четвертом не выстрелит. Какую должность занимает Фамусов в сегодняшней Москве? В какого призрака поверит сегодня принц Гамлет? Как выглядит саморазоблачение Хлестакова в эпоху электронной почты — и зачем вам в этой пьесе почтмейстер? Как вообще в современном мире поступать с коллизиями, построенными на ожидании сообщения, на времени, проходящем между новостью и ее опровержением? А от этого зависит ощущение сценического времени, оно у современного зала совсем иное, чем даже еще 50 лет назад. Речь идет не о банальных обстоятельствах, а о том, в состоянии ли театр предъявить зрительному залу и классическую историю, и его собственное отражение в этой истории.
например:
«Три сестры», режиссер Саймон Стоун, Театр Базеля, 2016
Стоун — режиссер-реалист, и в каком-то смысле даже гиперреалист, в постановках классики ему всегда важна безоговорочная сегодняшняя достоверность не только антуража, но и всех фигур и коллизий. Действие его спектакля происходит в швейцарском шале в наши дни, а для каждого персонажа скрупулезно сконструирована биография, параллельная биографии героев пьесы. Здесь о покойном отце не только постоянно говорят, но и никак не могут захоронить урну с его прахом, которая всякий раз оказывается в самом неподходящем месте в доме; здесь вместо дорогого и нелепого самовара Чебутыкин дарит Ирине дорогой и нелепый слайсер для нарезки хамона с прилагающимся окороком, неуместность которого усугубляется тем, что Ирина давно уже вегетарианка. Здесь у каждого чеховского невроза находится современный аналог для жителей европейской цивилизации. В спектакле Стоуна нет ни одной строчки из канонического текста «Трех сестер» Чехова, при этом он абсолютно верен оригиналу — и в этом оригинале сегодняшний зритель вынужден каждую секунду узнавать себя.
неполное вместо целого
Кроме конструкторов, в современном театре есть и деконструкторы. Для которых художественная реальность вообще не похожа на стройное величественное здание, где все части соразмерны друг другу и своему назначению. Для деконструкторов сохранение драматического сюжета просто противоречит очевидности и современному мироощущению. Это театр, который так же мало нарративен, как модернистский роман,— потому что современный мир ведь тоже больше не нарративен в классическом смысле. В этом антинарративном мире классическая сюжетная иерархия, в которой есть главный герой, есть второстепенные, есть эпизодические, есть массовка, и все они соответственно получают свою убывающую долю зрительского и режиссерского внимания, выглядит архаично.
Деконструирующий взгляд смещает пропорции и ракурсы и всегда готов принять фрагмент за целое, потому что «зачем вся дева, раз есть колено». Или, как говорит Митя Карамазов, «у Грушеньки, у шельмы, есть один такой изгиб». Сегодняшний режиссерский взгляд часто ищет и находит в классическом тексте именно «изгиб», одну черту, собрание малозаметных поворотов. Цельность лжива, фрагментарность естественна, любые жесткие причинно-следственные связи наивны — современное сознание гораздо лучше видит мир фасеточным глазом. Поэтому же, кстати, такой деконструирующий взгляд предпочитает в театре прозу, а не драму — роман Достоевского заведомо не умещается в сценические рамки, оставляя постановщику свободу выбора мотивов и ракурсов. Часто это ракурсы и мотивы принадлежат персонажам эпизодическим, почти посторонним. «Вся» история остается за кулисами — мы смотрим на нее через полуоткрытую дверь глазами случайного прохожего. В этом театре антиконструкции и антииерархии классический текст играет роль смутного воспоминания об утраченном целом.
например:
«Кристина», режиссер Кейти Митчелл, «Шаубюне», 2010
Митчелл инсценирует «Фрекен Жюли» Стриндберга, как бы вообще «мимо» ее сюжета — история короткого трагического поединка страстей и желаний, которая разыгрывается между богатой наследницей, почти еще подростком Жюли и лакеем ее отца Жаном, показана глазами второстепенного персонажа, невесты Жана Кристины. Ракурсы и возможности этого взгляда выверены досконально и подчеркнуты главным формальным приемом спектакля: Митчелл соединяет на сцене театр и кино, взгляд Кристины соединяется со взглядом камеры, и тот «фильм», который она видит из своих закоулков и углов, как результат онлайн-монтажа возникает на экране над сценой. Интенсивность впечатления от этой истории, состоящей из обрывочных сцен и фрагментов диалогов, оказалась вполне сравнима с любым голливудским хоррором.
сложносочиненное вместо воспроизведенного
Своего рода дополняющая противоположность играм деконструкторов — режиссерская комбинаторика. Это такое же фасеточное зрение, только направлено оно не на одно литературное произведение, а на все мироздание разом. И это театр, которому чего-то одного всегда слишком мало,— он выбирает свои изгибы и фрагменты из всего объема имеющихся текстов. Если историческое «осовременивание» проверяет сегодняшний день на соответствие классическим коллизиям и расхождение с ними, то в театре универсальных фрагментов царит обостренное чувство связи «всего со всем»: здесь друг с другом встречаются романы, драмы, философские трактаты и газетные передовицы, европейская драма соединяется с восточной музыкальной теорией, реальные люди вступают в диалог с литературными персонажами. Индивидуальность театра, его участие в диалоге проявляется в том, каких именно участников он выпускает на этот дискуссионный ринг. Этот театр предъявляет нам мироздание как единое пространство, в котором царит более или менее хаотичная сложность, где нет разделения на реальность и вымысел, на мертвых и живых. Такая сложносочиненность, кстати, для театра нередко чревата неприятностями — выпущенные из жанровых клеток фигуры и слова способны оказывать совсем не предвиденное провокационное воздействие. (Буквально несколько недель назад московскому Театру армии пришлось тушить скандал, который возник из-за того, что молодой режиссер соединил в монологе персонажа текст Раскольникова и документальный текст, принадлежащий реальному убийце. Это всего лишь самый свежий, но совсем не самый громкий случай.)
например:
«Баал», режиссер Франк Касторф, «Резиденцтеатр», 2015
Ранняя пьеса Брехта — двусмысленный гимн человеку Нового времени, который готов насильно подчинить себе весь мир, потому что чувствует себя реальным, живым только в крайностях и эксцессах. В этом портрете много сарказма и романтического экспрессионизма: Брехт был не только молод, но и только что пережил Первую мировую войну, которую считал апокалиптической катастрофой. Сто лет спустя режиссер Касторф сохраняет брехтовский сарказм, но его романтизму предъявляет довольно мрачный счет, воссоздавая картину мира, охваченного жаждой колонизации. И для этого ему недостаточно одного только Брехта. Баал Касторфа — американский солдат во Вьетнаме, наследующий всем бойням столетия, а его монологи перебиваются публицистическими текстами Сартра, длинными визуальными цитатами из копполовского «Апокалипсиса» и даже оперной арией из «Мадам Баттерфляй», которая здесь становится своего рода концентратом колониального дискурса. Спектакль спровоцировал один из немногих по-настоящему громких скандалов в немецком театре, который вообще-то почти никогда не ограничивает творческую свободу режиссера: наследники Брехта подали на режиссера в суд за искажение классики, и «Баал» был снят с репертуара «Резиденцтеатра» после нескольких показов. Когда Касторф в следующий раз обратился к антиколониальной тематике, он предусмотрительно выбрал «Фауста», срок защиты прав которого от режиссеров уже давно истек.
пересказанное вместо буквального
Самый обманчивый вид современного театрального высказывания — это тот, где классический текст как бы вообще перестает быть объектом внимания и интереса. Это постановки, в которых текст, а вместе с ним и сюжет более или менее растворяются в мизансцене, сценографии, в сценическом жесте и пластике, своего рода «балет сценических метафор». На самом деле такой театр может быть гораздо более внимателен к автору, чем любая буквальная постановка, которая держится за каждое слово оригинала. Но его делают режиссеры (обычно в тесном и важном сотрудничестве со сценографами) с сильно развитым ощущением того, как велика видовая разница между словесным и перформативным в искусстве. «Я бы обнял тебя, но я просто текст» — называлась работа художника Тимофея Ради на выставке 2014 года, с отсылающим все к тому же Магритту слоганом «This is not a Book». Если смена среды — не формальная, а онтологическая художественная проблема, то все герои мировой драматургии (и вообще литературы) — это только текст, двухмерная графическая композиция, апеллирующая к фантазии читающего. И перенос на сцену вообще не может быть равен произнесению этого текста вслух. Театр выстраивает трехмерный мир, который овеществляет автора и прекращает его существование как текста. Иногда это овеществление создает единый монолитный знак, общую метафору всей пьесы (или всего романа, или даже всего автора), а иногда и череду таких метафор, берущую на себя функции сюжета. Кстати, в отличие от всех прочих, метафорический театр как раз склонен всерьез обижаться на упрек «это не Чехов», «это не Кафка», «это не Шекспир» — потому что его важной амбицией всегда остается именно воплощение «автора» как новой театральной реальности.
например:
«Волшебная гора», режиссер Константин Богомолов, Электротеатр «Станиславский», 2017
Роман Томаса Манна у Константина Богомолова превращен в спектакль, который идет 1 час 20 минут и который меньше всего имеет смысл упрекать в том, что «это не Манн». Это как раз-таки Манн, сокращенный до аудиовизуального знака, концептуального образа. Пространство, созданное сценографом Ларисой Ломакиной, одновременно и чрезвычайно красивое, и очень отталкивающее, представляет собою гигантскую «коробку», все стены которой как будто бы заняты увеличенной электронным микроскопом колонией бактерий. Акустически в спектакле царят все модуляции кашля, заменяющего диалог в первой половине спектакля,— во второй к кашлю добавляются короткие истории умирания, соответствующие разным временам года, своего рода пейзажная лирика смерти. Санаторное заточение Ганса Касторпа в спектакле Богомолова сконцентрировано в инсталляцию, в которой нет авторского текста, но сама она, безусловно, является порождением этого текста, его театральным отзвуком — или призраком.
связанное вместо обособленного
«Чайка 73458» называется спектакль по пьесе Чехова, идущий сегодня в Театре на Таганке. Число в названии — это подтвержденное количество постановок «Чайки» в мире на момент премьеры в 2017 году. Цифра действительно обескураживает: куда столько? Зачем современный театр все время играет и играет классику? Почему не написать (заказать) новую пьесу, вместо того чтобы тратить время на переделки классического текста — и еще потом за них оправдываться? Вопрос этот громко и шепотом раздается и справа и слева. Но театр от классики не откажется.
С великой пьесой за время ее жизни происходят два противонаправленных процесса. Она изнашивается, как бы неуважительно это ни звучало. Но одновременно с этим она еще постоянно наращивает собственную прибавочную стоимость. Прибавочная стоимость — это история ее интерпретаций. В ней, слышно это или нет, отзываются эхом все ее постановки. Каждое время слышит в «Гамлете» свое — и все это, заново услышанное, никуда не девается, а остается внутри пьесы, звучит дальше. Выбирая классику, современный театр вступает в диалог не только с самим текстом, но и с накопившимся объемом его интерпретаций. Чацкий Сергея Юрского или Олега Меньшикова полемизировал не только с фамусовской Москвой, но и со всеми предыдущими Чацкими, виденными и не виденными.
По этой же причине театр крайне нервно относится ко всем попыткам втиснуть между собой и текстом успокоительное «по мотивам»: какими бы странными, сложными и далекими ни были современные театральные фантазии на классические темы — все они часть того же самого сосуда, той же самой вещи под названием «Чайка», или «Гамлет», или «Горе от ума», все эти фантазии, интерпретации и переделки входят невидимым объемом в состав пьесы, в ее «шлейф».
например:
«Три сестры», режиссер Сузанна Кеннеди, театр «Каммершпиле», Мюнхен, 2019
Спектакль Сузанны Кеннеди сделан в полном осознании того, что до него были тысячи и тысячи версий «Трех сестер», режиссер в данном случае претендует не на оригинальность интерпретации, а экспериментирует с обнулением интерпретации как подхода. Персонажи Кеннеди — не живые люди, а архетипы, актеры большую часть времени играют в непроницаемых масках, превращающих человеческие лица в геометрическую абстракцию, черный квадрат. Это больше не Ирина, Ольга, Маша, а три женские фигуры, вернее, три знака женских фигур — за масками могут быть женщины, мужчины, роботы, кто угодно. Где-то во Вселенной существует компьютерное облако, в нем хранится вся история «Трех сестер», а то, что мы видим в спектакле Кеннеди,— своего рода проекция, ее персонажи не привязаны ни к какой реальности, кроме цифровой, они сами порождение этого облака, фигуры из Соляриса, вызванные к жизни памятью реальных людей. Только в данном случае в роли астронавтов, которых посещают эти призраки-киборги, выступают зрители. О том, что сценическая история этой пьесы, начавшаяся так давно, и на этой цифровой фантазии точно не закончится, косвенно напоминает бегущая строка в финале спектакля: «Is never the end, is never the end, is never the end».
продолженное вместо остановившегося
Что, собственно, значит сакраментальное «лучше Чехова не напишешь», если не вслушиваться в подразумеваемую склочную интонацию? То, что, страшно сказать, время драматических шедевров закончилось. Но это только звучит неуютно, а на самом деле ничего особенного в этом нет. В истории театра была эпоха авторов-драматургов, и она имеет свою историческую протяженность. Девяносто процентов «вечных» пьес, гуляющих по сценам мира, родом из этой эпохи. Которая начинается, если очень сильно огрублять и округлять, примерно с Шекспира, а заканчивается приблизительно на Пиранделло. А если не рисковать и не брать конкретные имена, то с середины XVI до середины XX века. Четыре века — длинная история, но не вечность. И эта история уже примерно полвека как закончилась — или, скажем так, продолжает заканчиваться. Отсутствие современного Чехова — не факт истории театра, не свидетельство коллективной одаренности или бездарности, а факт антропологии. Дело не в театре, а в нас. Сюжет, действие, диалог, характер, типаж на протяжении четырех веков что-то существенное рассказывали о мире и человеке, а потом перестали. И с этого времени собственно классическая пьеса превращается в игровую материю, ценную и великую. Мы по-прежнему узнаем себя в узорах этой материи и по-прежнему изучаем по ней строение Вселенной и человека, но в наших отношениях с ней, хотим мы того или не хотим, всегда есть дистанция разной сложности. Современный театр обращается к классическим текстам для того, чтобы эту дистанцию раз за разом проходить заново, с новым итогом и по новой траектории. Современный спектакль — это и есть траектория, маршрут, а не остановка.