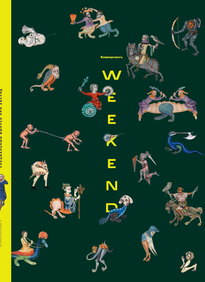Опыт Второй мировой войны показал, что многие аксиомы культуры — вовсе не аксиомы. Так, например, оказалось, что искусство не обязательно равняется созиданию: искусство может означать разрушение, не разрушение отживших форм, а разрушение как эстетический и этический принцип.
Человек в противогазе, защитных очках и каске берет в руки кисть с длинным черенком, макает в краску и принимается наносить мазки на большое белое полотно, натянутое на раму. В этот момент и начинается перформанс. То есть человек в противогазе, очках и каске с кистью у холста перформансом еще не был, хотя зрителя уже приучили к подобным зрелищам: Джексон Поллок брызжет алкидной эмалью на стекло в фильме Ханса Намута, Жорж Матье артистично пляшет перед холстом в какой-то французской телепередаче. Но перформанс Густава Мецгера, человека в противогазе, очках и каске, происходит непосредственно на холсте: вместо мазков на нейлоновом полотне остаются дыры, дыры растут, полотно скукоживается и исчезает на глазах, конфликт фигуры и фона разрешается в обоюдной аннигиляции, так что в финале спектакля открывается прекрасный вид на собор Святого Павла и Темзу с набережной Бэнксайд. Мецгер называл это «кислотной живописью действия» — в качестве краски он использовал соляную кислоту. И термин «живопись действия», введенный в оборот Харольдом Розенбергом, обретал новый смысл в мецгеровских демонстрациях «саморазрушающегося искусства», как, впрочем, и термин «живопись руин».
Фотографии из Ковентри после первых бомбардировок люфтваффе не оставляли сомнений в том, что в ближайшие годы культурный пейзаж Европы изменится кардинально — станет пейзажем руин. Абстрактная логика подсказывала, что в искусстве после войны должны возобладать конструктивные тенденции — с пафосом восстановления и строительства. Но фотографии из лагерей уничтожения отменили рациональность, смысл и абстрактную логику со всеми ее дедукциями. «После Освенцима чувство противится утверждению позитивности наличного бытия, видит в нем только пустую болтовню, несправедливость к жертвам; чувство не приемлет рассуждений о том, что в судьбе этих жертв еще можно отыскать какие-нибудь крохи так называемого смысла; это стало объективностью после событий, которые приговорили к оскорблениям и насмешкам конструкцию смысла имманентности...— писал Теодор Адорно в „Негативной диалектике".— После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой — всего лишь мусор. В своих попытках возродиться после всего того, что произошло в ее вотчинах и не встретило сопротивления, культура окончательно превращается в идеологию, которой она потенциально и была… Тот, кто ратует за сохранение культуры, пусть даже виновной во всех грехах, пусть даже убогой, тот превращается в ее сообщника и клеврета; тот, кто отказывается от культуры, непосредственно приближает наступление эпохи варварства; и именно в этом качестве культура и разоблачила самое себя».
Густав Мецгер (1926–2017) принадлежал к поколению художников после Освенцима, всей кожей ощущавших отсутствие позитивности бытия и невозможность позитивности в культуре. В результате его акций оставался «всего лишь мусор» — это именно в связи с Мецгером возник бродячий сюжет про уборщицу, которая выбросила из музейного зала какой-то хлам, а на самом деле это было произведение искусства (в 2004-м по заказу галереи Тейт он повторил свою «Первую публичную демонстрацию саморазрушающегося искусства» 1960 года — мешок мусора, бывший частью получившейся в результате инсталляции, и пал жертвой уборки музея). Правда, в революционные 1960-е его протестное слово — декларации и манифесты «саморазрушающегося искусства», которые Мецгер неустанно публиковал с 1959 года,— не так уж часто подтверждалось делом вроде пожирающей самое себя кислотной живописи: мецгеровское антитворчество было программно антикапиталистическим, ведь капитализм являлся причиной всех мировых бед, будь то рынок, превративший искусство в товар, или милитаризм и гонка ядерных вооружений, и естественно, что капитал отвечал этому антитворчеству полной взаимностью — финансирование находилось лишь изредка.
В сентябре 1966 года Мецгеру все же удалось провести в Лондоне международный «Симпозиум по разрушению в искусстве»: участвовали пионеры хеппенингов и ветераны «Флюксуса», любители разбить, разрезать, растерзать что-нибудь культурное и особенно высококультурное наподобие рояля — впоследствии группа The Who и другие мастера разнести в щепки гитару во время концерта будут говорить, что Мецгер был их учителем (в начале 1960-х Пит Таунсенд действительно учился в художественном колледже, где преподавал Мецгер). Джон Лэтам (1921–2006), специализировавшийся на деструкции такого высококультурного продукта, как книга (само слово «книга» в названиях его книжных работ, «skoob works», всегда пишется наоборот, справа налево), поджег три книжные башни, «Skoob Towers», под стенами Британского музея — ему ассистировали сам Мецгер и Йоко Оно. И костры из книг, по легенде, свода законов Великобритании, недвусмысленно отсылали к нацистским акциям.
В искусстве эпохи 1968 года можно найти множество примеров аналогичных художественных деструкций: Жан Тенгели (1925–1991) конструировал затейливые саморазрушающиеся машины из разнообразного технического мусора — словно бы в поддержку идей Мецгера о разрушительности машинной цивилизации; Арнульф Райнер (род. 1929) практиковал «закрашивания», покрывая широкими мазками краски, чаще всего черной, различные изображения — собственные рисунки и картины, репродукции всевозможных шедевров и даже оригиналы чужих работ, за что привлекался к суду. Искусство эпохи 1968 года тошнило от старой культуры, но у художников вроде Мецгера был один специальный повод для тошноты. Северная Ирландия, арабо-израильский конфликт, угроза ядерной войны, глобальный терроризм, глобальное потепление — Мецгер высказывался по широкому кругу политических вопросов не только в искусстве, он был активистом антивоенного «Комитета ста» (считается, что именно он придумал это название) и как один из активистов осенью 1961-го отправился в тюрьму за подстрекательства к мирным протестам против ядерной гонки, причем сидел в хорошей компании — вместе с президентом комитета, Бертраном Расселом, и прочими достойными людьми. Но только в серии «Исторических фотографий» Мецгера 1990-х стал проявляться один глубоко личный сюжет.
«Исторические фотографии» основываются на парадоксальном приеме: снимки, документирующие известные исторические события, многократно увеличиваются, так что их можно было бы рассмотреть в мельчайших деталях, если бы глаз не наталкивался на какое-нибудь препятствие — глухой забор, занавес, кучу мусора. Перед фотографией расстрела в Варшавском гетто навалена груда битого кирпича, фотография евреев, моющих улицы Вены после аншлюса, покрыта большим желтым полотнищем — чтобы ее увидеть, надо встать на колени, как изображенные на фотографии или как Вилли Брандт перед мемориалом в Варшавском гетто, и проползти под покрывалом. Густав Мецгер, родившийся в семье нюрнбергских евреев, попал в Лондон вместе со старшим братом в 1939 году — в рамках операции «Kindertransport», родителей своих он больше никогда не видел. К такому же фотоматериалу обращался и Борис Лурье (1924–2008), чьи бабушка, мать, сестра и невеста остались в Румбульском лесу, а сам он, пройдя через Саласпилс, Штутгоф и Бухенвальд, выжил, перебрался в Америку и сделался художником только для того, чтобы потребовать отмены искусства,— движение NO!art возникло примерно тогда же, что и деструктивный художественный интернационал Мецгера. У этих художников после Освенцима — не в фигуральном, а в прямом смысле слова — было чуть больше оснований для того, чтобы работать в поле адорновской негативной диалектики культуры и варварства, созидания и разрушения, возможности и невозможности видеть. «Колышущиеся деревья» Мецгера в Манчестере, рощица ив, вырванных из земли и воткнутых кроной вниз в бетонный блок, покачивают корнями в воздухе, скорбя о мире войны и насилия, где все перевернуто с ног на голову.