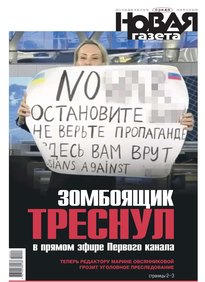Сплетение судеб на фоне мировой войны: русская эмигрантка и участница французского Сопротивления, француз-коллаборационист и высокопоставленный офицер СС. Судьба героини фильма навеяна судьбами русских эмигрантов княгини Веры Оболенской, Матери Марии и Ариадны Скрябиной. Разговор с режиссером о фильме, о видимом и невидимом в истории, политических рисках, и пользе дефицита…
— Вообще у меня как-то нет комплексов. Возможно, это связано с иллюзией гармонии, которую испытываю. Поэтому мне избавляться особенно не от чего. Если цели в жизни есть, значит, жизнь движется. Часто возвращаюсь к идеям, посетившим меня много лет назад. Историю Вики Оболенской, так же как историю Матери Марии, я услышал очень давно. Потом более детально познакомился с ней в замечательной книге Яновского «Поля Елисейские». Это автор из младшего писательского поколения первой волны, у которого не было читателей в Париже. Когда что-то западает глубоко, оно не оставляет тебя. А раз не оставляет, значит, растет. Знаете, у Моцарта есть замечательное признание: он слышит всю симфонию от начала до конца за 2 секунды. Всю. А потом происходит необходимая работа в течение месяца, чтобы записать.
— У вас такое случалось?
— Со мной это тоже случалось: я видел картину за несколько секунд целиком. Потом надо было написать сценарий, найти артистов и так далее. Конечно, это тоже иллюзия: будто видишь весь фильм. Но какой-то камертон имеешь. Странная вещь — наша работа. Начиная с 2014-го, с картины «Белые ночи почтальона Тряпицына», я начал новую жизнь. Это связано со многими обстоятельствами. В том числе и в личной жизни… Можно сказать, мне открылись возможности искать другие ценности в том, что называется «язык кинематографа». Говорю о языке, потому что язык в определенной степени ведет к содержанию. Я же по накатанной дороге шел 50 лет.
— Не скажу, что в «Асе Клячиной…» вы шли по столбовой дороге. Все же это было перпендикулярное кино по отношению к традиции.
— Ну да, вначале дорога была каменистой. Но недавно обнаружилось, что я мало что для себя за эти 50 лет открыл.
— До конца жизни Микеланджело, о котором вы вроде бы планируете снимать кино, повторял: «Я еще ничего не могу, зато я умею учиться».
— Да, конечно. Говоря о поиске языка, я имею в виду более пристальный взгляд на реальность. Как это объяснить? Вот вы можете стоять и смотреть на один цветок и думать — о другом. А можете смотреть на цветок и думать о цветке. И когда вы думаете о цветке, возникают, как и рассказывают восточные философии, иные смыслы.
— Можно ли сказать, что таким, условно говоря, «цветком» для вас могло стать лицо Оболенской, с которого начинается ваш ролик к фильму. Лицо прекрасно образованной аристократки, возглавившей французское Сопротивление. Не сломленной гестапо и гильотинированной. Потом хроника, в которой впечатано время… Наверное, не история Сопротивления, а масштаб личности и судьба Вики вас привлекли?
— Этот ролик сделан до фильма. Я делал фильм не о Вике Оболенской — о прелести и соблазне зла. Зло редко выглядит с первого взгляда чудовищно. Оно выглядит как добро, как потребность и даже необходимость. Если бы зло открывало себя сразу, вряд ли люди с головой кидались в него. Зло может увлекать. С этой точки зрения, можно говорить, что я делал картину о нацизме. О том, что зло разрастается пышно, энергично, а чтобы росло добро, нужно делать усилие.
— А еще зло легко консолидируется. В отличие от добра. У вас же на схожую тему был и «Ближний круг» — об окружении товарища Сталина.
— Вы правы. Вообще на любую тему можно сделать средний фильм, плохой, гениальный. Вопрос в отборе. Отбор и есть художник. Он отбирает слова, ноты, мазки, формы, образы. Чем жестче отбор, тем существеннее то, что остается. Я по-другому стал отбирать образы — движущиеся картинки со звуком. Ведь я двигался от медленного кино к очень быстрому. Понимаете, у меня были картины, в которых было полторы тысячи кадров…
— «Поезд-беглец» например.
— Конечно. А сейчас неизмеримо меньше кадров. Это не самоцель — так получается, когда пытаешься интенсивно разглядеть нечто важное… Организуешь съемку так, будто подглядываешь. Ведь отношения зрителя с тем, что он видит, многослойны. Зритель сегодня прекрасно понимает, снята картина в 16-м году, 30-м, 60-м. И стилистика с этой точки зрения была идеально выдержана в новейшем кино только у Вуди Аллена. В «Зеллиге», например, с помощью хроники, старых линз, музыки воссоздается время — рубеж 20-х и 30-х годов. Хотя масса картин в Голливуде сделана про 30-е годы — вроде бы тщательно работают художники, операторы, и характеры точно подобраны. Но видно, что снято сейчас.
— Вы снимали в «старой стилистике»?
— Я хотел бы, чтобы не было понятно, как, когда снято.
— На пограничье с документальным кино, как в «…Тряпицыне»?
— После того фильма мне тяжело снимать артистов. Вот в «Микеланджело» буду искать «неартистов».
— Если говорить о привлекательности зла — эта тема и художников веками не отпускает. От интерпретаций библейских сюжетов и мифов до плеяды шекспировских злодеев, от Мефистофеля Гёте, булгаковской «гастрольной группы» — до кинематографических Джокера, Локи, Алекса из «Заводного апельсина». Эти персонажи умны, наделены глубокими чувствами. И, как правило, ярче, магнетичнее положительных героев.
— Зло всегда интереснее. Но зло, которое рядится в добро, — иная ситуация. Как в «Искушении Святого Антония». Когда человек обнаруживает: то, что он считал добром, является злом, — его посещает великое смятение. Бывает, человек и не понимает, что служил злу. Или убежден: «Да, я служу злу, потому что в результате это будет добро».
— В «Благоволительницах», которые, по вашему признанию, так увлекли вас, Литтелл говорит, что людская память слишком коротка. Сегодня и война, и Сопротивление — нечто мифологическое. История переписывается не только у нас — во всех странах. Впрочем, у нас особенно часто.
— Объективной истории не существует. Существует ряд фактов, которые так или иначе интерпретируются. Любая попытка объяснить — ошибочна в том смысле, что является односторонней. Есть видимая часть истории, которая известна кому-то частично. Другая часть видимой истории известна другому. А невидимая часть истории неизвестна никому, кроме Бога. Например, лет пять назад я соглашался с тем, что Александр Невский — коллаборационист, предал интересы русских, договаривался с мурзами и монголами. Потому что принимал интерпретацию историков, что русские выбирали себе не тех союзников. Вместо того чтобы искать их на Западе, искали на Востоке. Казалось очевидным: если бы Невский вошел в союз с тевтонами, то, конечно, избавился бы от Орды. Дальше обнаружилось, что на территории Древней Руси, которая была под оброком у Орды, сохранились практически все православные памятники архитектуры начиная с IX века. А на территории, взятой тевтонцами, остался один памятник из 800. Вывод: татары не были агрессивны в религиозном отношении. Им были нужны деньги. В то время как тевтонцы, и всё, что шло с Запада, — несли по-настоящему агрессивную идеологию. Они хотели обратить всех в латинскую веру. Когда понимаешь, что ошибался, лучшей фразы у меня нет, чем известное изречение Пескова: «У нас нет достаточной информации, чтобы дать вам наше мнение по этому вопросу». Достаточное количество информации — ключевая вещь, ее никогда не будет, особенно в интерпретации историков. История переписывается во всем мире. Диву даешься. Наши же сегодняшние интерпретации не новые, это возвращение к советскому учебнику.
— Я имею в виду лукавство историков, когда что-то умалчивается сознательно. Например, число жертв репрессий, отрицается Холокост.
— Честно говоря, не знаю, что происходит с русским школьником. Но, когда прошу молодых людей назвать имя-отчество Сталина, у них — бараний глаз. Память действительно укорачивается. Мгновенная доступность любой информации лишает человека необходимости аккумулировать знания, что может привести к печальному результату: сужению человеческого сознания к сознанию обезьяны. Отсутствие необходимости что-либо запоминать… ведет к лени ума. Знаменитая история с домохозяйкой в Америке, которая не могла из супермаркета найти дорогу домой, потому что GPS сломался. Это демонстрация того, что творит технология и информация с человеческим умом. Я не помню номера телефона жены — нажимаю кнопку. Хотя 60 лет помню номер телефона моих родителей. Мне кажется, вообще с человеческой цивилизацией происходит какое-то симптоматичное обеднение. Возьмите такую вещь, как дефицит. Я пришел к выводу, что дефицит — важное условие человеческого существования. В СССР был дефицит на всё, в том числе на информацию. Но люди знали и читали все. Сегодня почти никто ничего не читает.
— А как вам кажется: мы мирные люди или нация воинственная? Все время воюем.
— И у нас были мирные периоды, во времена Брежнева, Александра Второго.
— Во времена Брежнева мы вошли в Афганистан, мы вступали в войны и во времена Александра Второго…
— Наши представления формируются на основе определенных знаний. Но мы не задумываемся о том, что, как правило, эти знания представляют собой лишь крошечную часть всех причинно-следственных связей. То, что нам видимо, неизмеримо меньше того, чего мы не знаем. Во времена Брежнева танки сами покатились в Чехословакию или что-то произошло? Известно, что важной причиной ввода танков было отсутствие военных баз в Чехословакии. И Свобода не хотел, чтобы там была Советская армия. Но это страшно пугало нас, потому что на границе стояло НАТО. То есть причины были гораздо более глубокими, чем схема «Русский сапог шагает по Европе». Большая политика редко бывает видна. Я встречал моего друга Колю Шишлина, работавшего в международном отделе ЦК КПСС, сразу после знаменательного совещания в Чиерна-над-Тисой. Брежнев со товарищи — с одной стороны, и с другой — Свобода и Дубчек. Коля вернулся с перевернутым лицом, повторяя: «Катастрофа!..» «Мы, — он имел в виду поколение, готовившее экономические реформы, там были Черняев, Бовин, Шахназаров, — мы 10 лет ползли к окопам неприятели. Мы почти уговорили монстров из Политбюро проводить экономическую реформу. А подлец Дубчек вскочил со своим либеральным криком. Теперь накроют всех нас. Перестройка будет только в следующем поколении, минимум через 20 лет». Как в воду глядел. Сталинисты немедленно воспользовались ситуацией: «Смотрите, что будет, если позволить реформы». Танки вводили под скрежет зубов мечтавших о реформах в России.
— Лучший способ сплотить нацию — связать ее жертвенной кровью, войной.
— К вопросу о войне. Я полагаю, что русские не воинственны. Вот советские — да. Но там была марксистская идеология. Русские не воинственны, но они лучшие воины в мире. То ли свою жизнь не ценят. То ли они в состоянии в страшных сапогах и портянках пройти 80 км. Но они так и живут. Если поедете куда-нибудь на Белое море… Какие санкции? Отключите электричество, газ, горячую воду. И что? Во всей стране ничего не случится. Это беспредельное терпение, которое является нашим достоинством. И недостатком.
— О развращении войной у того же Литтелла: «Человек мужского пола теряет в войне два права — «на жизнь» и «не убивать».
— Верно. Это и есть неизбежное, как в древнегреческой трагедии: фатум сильнее. Когда человек идет на войну, он становится владением судьбы. Не верю, что когда-нибудь на Земле наступит время без войны. Пока существуют разные культуры, расы, неравные IQ, генетические коды… будут конфликты. Думаю, что приходит конец англосаксонской модели гегемонии над миром (возможно, страшный, не дай Бог, конец). Чего мы не замечали, пока любили джинсы, Элвиса Пресли и сигареты Camel. В юности все, что было американским, — для нас было самым прекрасным на свете. Эта любовь проникала во все поры. До сегодняшнего дня всю поп-музыку поют по-английски. Почему же не по-итальянски, как в ХVIII веке?
— Если говорить о современных проблемах, меняется и базовая шкала ценностей. Культура — в широком смысле — на посылках у денег. В чем опасность этого «служения»?
— Знаете, философия «время — деньги» убивает иррациональную сторону человеческой жизни. Человек сидит на горе, смотрит на восход, имеет роскошь не думать о времени. А у человека, для которого время — деньги, нет времени смотреть на восход. Если нет времени смотреть на восход, то нет времени молиться, слушать музыку, читать толстые книги. Я хочу сказать, что у времени нет цены. Оно бесценно. Знаменательно, что успех той или иной страны сегодня определяется по ВВП. Но рост ВВП говорит лишь об автомобильных колесах, количестве съеденной колбасы. Он ничего не говорит о способности человека создавать музыку, картины, смотреть на восход. Материальное окончательно обогнало духовное. Кто это сказал, Бердяев? «Преступление — человеку, умирающему от голода, — говорить об этике». Но как только складываются чрезмерно благоприятные условия — уровень духовных и интеллектуальных потребностей истончается, — как в Америке, либо не развивается, — как в Экваториальной Африке. Там, где падают бананы с неба, человек может лежать, не вставая с гамака. Посмотрите, что происходит с обществом потребления сегодня. Хаксли сказал, что Запад движется к пропасти на «Роллс-ройсе», а русские — на трамвае.
— В том, что вы говорите, есть парадокс. Вы говорите об отсутствии дефицита, но все, что касается нематериальных вещей, в том числе этики, — уходит в зону дефицита.
— Если неощутимо — это не дефицит, его просто нет. Это страшнее. Сначала я посмеивался, сегодня уже не до смеха. Вспоминаются слова Шпенглера: «Через 150–200 лет виолончель будет висеть на стене в музее. Но уха, которое слышит, как она звучит, не будет. Если нет слышащего уха, зачем нужна виолончель?» Без читателя нет литературы.
— Какова в этом роль государства, устанавливающего свою шкалу «ценностей». «Палачи говорят на языке государства», — сказал Жорж Батай. Палача Вики звали Вилли Реттегр. За каждую голову получал 80 рейхсмарок премиальных. Работали исправно: и его гильотина, и вся карательная государственная машина.
— Не стоит так просто обвинять государства. Литтелл важную вещь говорит: «Большинство людей, которые участвовали в этом уничтожении человеческих существ, были добропорядочными буржуа, булочниками, аптекарями. Они и сейчас ходят по улицам, улыбаются. Они даже не знают, на что способны, если вокруг все делают то же самое». Это как раз охлократия. Реализация доктрины Ортега-и-Гассета, описывающей опасность психологии массы. Если один из толпы очнется, станет индивидуумом — может в ужасе подумать: «Неужели это был я?» А может и не подумать. Мы же не знаем, что было бы, если бы фашизм не был разбит. Если бы Москва была взята. Человечеству повезло.
— Как же сохранить в себе индивидуальность? Мы же видим, как миллионы выходят на площадь поддержать Эрдогана, Кадырова.
— Выходить должны те, у кого есть желание выйти. Я говорю о сложности причинно-следственных связей. Впрочем, мне легче говорить о красках, киноязыке, звуках: в этом я понимаю больше.
— Но вы снимаете историческое кино. Ваша героиня даже под смертельной опасностью точно выстраивает шкалу: добро — зло. И если говорить о параллелях с древнегреческой трагедией, то это не только поступки высокой чести, но и идея личной ответственности за происходящее в мире.
— Вы правы, когда проводите параллель с греческой трагедией. Но знаете, чем трагедия отличается от драмы? В трагедии нет слез. Слезы высыхают от раскаленной температуры. Смысл трагедии в том, что человек, несмотря ни на что, идет прямо в пасть дракона. И не может свернуть с пути, даже если хочет, потому что, если свернет… это уже будет не трагический характер. Об одном и том же поступке можно делать драму, мелодраму или трагедию. Все зависит от уровня размышления об этом поступке. Не знаю, удалось ли мне, но я пытался. Я пытался также избавить артиста от необходимости «играть». Пытался помочь ему достичь состояния, когда артист не знает, что будет говорить. Как себя вести. Сейчас. Сиюминутно. Это сложно.
— Вы приближаетесь к своему 30-му фильму. Как я понимаю, следующим «избавлением от переживания» будет фильм о Микеланджело. Помните его фразу: «Господи, позволь, чтобы я всегда желал большего, чем могу сделать»?
— Не знаю, что случилось. Практически за один этот год я написал еще два сценария. Один из них — о Микеланджело. Снял фильм, завершил в театре трилогию Чехова, поставил рок-оперу «Преступление и наказание». Удовольствие, конечно, когда делаешь что-то не оттого, что надо, а что-то гонит. Бесы или ангелы… не знаю.