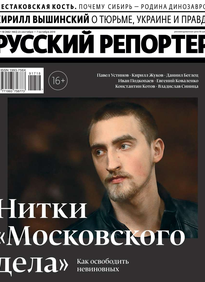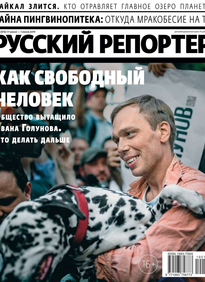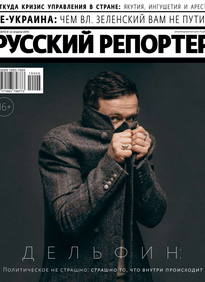Социологи как-то взялись узнавать, какие у россиян страхи. Оказалось, самых сильных два: что заболеют их близкие и что они сами будут болеть и мучиться. Чтобы выяснить это, специалисты «Левада-центра» опросили 1600 совершеннолетних в меру здоровых людей из 134 населенных пунктов страны. А корреспондент «РР» решила поговорить с матушкой Верой Масальцевой — женой священника, врачом с внушительным стажем, при этом больной раком кишечника в терминальной стадии
30 лет она помогала людям облегчить боль и победить смерть, а иногда наоборот — победить боль и облегчить смерть. А когда сама заболела, перестала бояться и того и другого. Чтобы понять, как преодолеть этот страх, корреспондент «РР» поспешила встретиться с матушкой Верой. И та успела рассказать свою жизнеутверждающую историю и поделиться мыслями, обобщающими ее врачебный опыт, духовный и просто человеческий. Как насчет потанцевать под музыку, которая прозвучит на твоих похоронах? Матушке Вере — запросто, если этот танец отвлечет кого-то от грусти. Потому что рыдать и страдать — слишком примитивная реакция, а смертельная болезнь — это все-таки не так просто.
Очень нужная боль
В холле Первого московского хосписа бьют часы, кругом картины и комнатные цветы. За окнами уютный дворик, в который почему-то с улицы страшно входить, хотя он очень милый, в нем калина и пруд. В коридоре на полстены аквариум, и в нем одна большая рыбина плавает от стены к стене. Раньше рыб было много, они жили в пруду во дворе, но кто-то захотел о них позаботиться, покормил неправильно, и рыбы умерли — все кроме этой одной.
Матушка Вера уселась на диванчик с осанкой прямой, как матерная брань. Сообщила, что забыла принять утренний обезболивающий наркотик. Но тут же оговорилась, что в этом нет ничего страшного, посмеявшись над тем, как я сразу заерзала в кресле.
— Я слышала, есть люди, больные раком, которые по моральным или религиозным причинам отказываются от обезболивающих наркотиков. И что вы тоже так поступали, — начинаю я. — Как это может быть? Кажется, такое пережить невозможно.
— Ну, вообще невозможно, — отвечает матушка Вера.
У нее твердый хрипловатый голос, иссиня-черные кудри, серебристые на висках, на шее нитка фиолетовых бус. В руках исписанная тетрадь.
— Тут то, что я сама хотела бы сказать, на случай если забуду, — глубоко вздыхает матушка Вера, открывая тетрадь. — Ладно. У меня был знакомый семилетний мальчик. Я же врач, у меня большой опыт общения с онкологическими больными. Мальчик катался на велосипеде, ушиб ножку — и за три месяца сгорел: рак кости. Когда мама ему в первый раз вколола наркотик, он спросил: «Мама, я наркоманом не стану?» Вот так. А потом, когда наркотики уже не помогали, он кричал: «Сволочи! Сволочи! Ну сделайте мне что-нибудь! Я вас ненавижу, сволочи».
Голос дрожит, и она плачет.
— Может, не будем вспоминать?
— Нет, я сейчас… Вы бы видели, какой этот мальчик был красивый, — она улыбается. — Это кричало святое дитя. До этого к нему приходил священник, исповедовал его, причащал и сказал, что это не ребенок, а святой. Но настоящая сильная боль, она может превратить человека в животное, когда он… кор-р-режится, понимаешь? Но я сейчас скажу про боль как врач. С одной стороны боль — это ведь что-то ненормальное в организме. А с другой, она очень-очень нужна. Это сигнал неблагополучия. Организм погибнет, если этих сигналов не будет, и мы не сможем обратиться за помощью, не будем о болезни знать. Поэтому боль для организма — ненормальна, но необходима, понимаешь?
Мера терпения
— Президент Франции Франсуа Миттеран, если не ошибаюсь, умирал от рака гортани. Боли были дикие! Ну, это гортань. Когда в прямой кишке, например, они тоже не менее сильные, но здесь тебя, что называется, душит. Он был яростный католик и сказал, что отказывается от обезболивающих вообще, что Господь поможет ему выдержать любую боль. Представь себе, он молился и терпел до самой смерти. В животное он не превратился. То есть ему Господь дал такие силы, понимаешь? Факт, что это личное дело каждого. Каждый чувствует меру своей веры и своего терпения. Мне очень тяжело в этом плане, потому что с одной стороны, я больная, у которой безвыходное положение. У меня четвертая стадия рака, последняя, меня выписали из онкоцентра, хотя там мой друг заведующий отделением. Я слышала, как одна женщина другой рассказывала, с выпученными глазами, что у нее в печени аж два метастаза! — смеется. — А я думаю: «Ха! А у меня — десять!» Такой орган печень, с ним ничего не сделаешь, особенно когда все легкие забиты метастазами и весь кишечник, везде рак-рак-рак-рак-рак-рак-рак-рак-рак, везде рак-рак-рак. Так что мое место теперь в хосписе, больничке для умирающих, так сказать. И если я не буду делать обезболивающие, врачи мне это подтвердили, то каждый пропущенный прием лекарств, где есть морфий, будет значить, что боль с каждым разом станет усиливаться, и потом ее уже ничем нельзя будет остановить. А ведь я же матушка, мой муж священник. Как верующий человек, по идее, я должна была бы сказать: «Ребят, вы че! В натуре, я верующая! Что я, наркоманка, что ли, старая бабка, чтобы морфий колоть? Я все выдержу! Мне Бог поможет!» Но я решила не терпеть. То ли от того, что я баба и трусиха… То ли от знания: если я боль запущу, потом мне никто уже не поможет. Ты понимаешь, о чем я?
— О том, что потом не будет выбора.
— О! Выбора не будет! Когда умирала женщина, фельдшер, которая работала в деревне в Тверской области… мы там жили, когда-то переехали из Москвы, чтобы дети в более здоровой обстановке росли, — мой муж там служит в храме… Так вот, раньше в этой деревне врача не было, только она, фельдшер — и жрец, и жнец, и на дуде игрец. И роды принимала, и пневмонию лечила, и уколы делала. Как выдержать такую жизнь, когда одна ты на столько деревень? Там много деревенек, ее туда-сюда возили, она оказывала помощь, не знала ни отдыха, ни сна, ни покоя. Старенькая стала, на пенсию ушла, и мы познакомились, вместе коз по полю гоняли.
Матушка Вера улыбается.
— Оказалось, очаровательная милая женщина, спокойная, улыбчивая… Но — «сапожник без сапог». Болел желудок, болел желудок, болел желудок. Ну мало ли: у кого желудок не болит? Поехала в Тверь обследоваться, стали делать операцию — оказалось, неоперабельный рак желудка. Зашили просто так, вырезать там было уже нечего, приехала обратно, и стали мы по очереди с местной фельдшерицей ей делать обезболивающие уколы: фельдшерица утром, а я вечером. И вот однажды… Мы не знали, что смерть уже. Она меня встречала всегда так хорошо, а тут я задерживалась, и у нее уже начали просыпаться боли. Прибегаю, а она мне говорит: «Ко мне пришли два ангела, с мешками. Поставили их, два мешка. В одном еще немножко места осталось…». Я говорю: «Зина, успокойся, не переживай». А она: «Немножко еще места осталось, чтоб доцелить узел». Понимаешь? Мешок сделать, полным чтобы стал. Через сутки она умерла. Она говорила, ангелы — это был не сон, это ей наяву как бы пригрезилось. И она даже место показала, где ангелы мешки поставили, я даже сейчас помню это место, около окошечка. Вот, понимаешь, показали ей, что ничего, не расстраивайся, еще немного осталось. Вот о чем это все! И семилетний мальчик беспокоится, не станет ли он наркоманом. И старенькой бабушке ангелы являлись. Понимаешь? И вопрос, терпеть ли боль, очень сложный для всех людей. Простому человеку надо объяснить, что вся сила морфия уходит на боль, она не делает тебя наркоманом.
Очень хочется верить
— С одной стороны, я циник, скептик — как медик, понимаешь? А с другой — я верующая. Очень хочу верить, так как работаю врачом. Я знаю, скольких людей я вылечила, да и роды принимала тоже, когда учительницей биологии работала, прямо в школе… Девочка, в девятом классе, пришла и говорит: «Дайте какую-нибудь таблеточку, у меня живот болит, менструация началась». Я говорю: «Валь! Какая таблеточка? У тебя воды уже отходят». А у нее по джинсам уже потекло. Ха-ха! Все она знала, она дурака валяла, тянула до последнего. «Рожать, — говорю, — Валя, будем». Бегу вниз, вызываю «скорую», которая приехала через три часа. Пока бежала, думала: где будем рожать — на полу или на стульях, если их вместе составить? А вдруг стулья разойдутся под ней?.. В общем, в результате рожали на стульях, потому что пол не успели помыть. И родили неплохую девочку. А Валя еще с медалью школу умудрилась закончить. И ничего такого страшного.
Часы бьют второй раз.
— Еще что тебе интересно, дорогая моя журналистка?
— Мне интересно, где во всем этом — уж раз мы про человека и боль — живет страх.
— О… Вот у меня записано: человечное отношение снижает боль. Ты бы видела, как вот в этом хосписе о тебе заботятся, медсестра не просто таблетку принесет, она посмотрит, а есть ли у тебя чем запить, и еще в рот тебе положит эту таблеточку, и стакан подаст, и спросит, все ли у тебя хорошо. Ну как можно страдать, когда к тебе так относятся? Мне поэтому и приятно сюда заходить, хотя я теперь дома болею, поближе к родным. А вон, смотри, пошел отец Христофор, такой удивительный! Когда на исповедь приходишь, многим хочется поговорить, заполнить время беспокойными пустыми словами. Нет, он не дает тебе растекаться, не дает уходить в эту боль, в этот страх. Говори о своем грехе — четко, конкретно! И ты как-то сразу внутри собираешься. У тебя мобилизация происходит — и телесных сил, кстати, тоже, которые полностью зависят от душевных. Вот это я и записала — думала, запомню, а фигушки…
Листает тетрадку.
— Вот. Пустота души приводит к усилению того, что ты страхом называла. Она приводит к страху и к усилению физической боли тела. Чтобы это преодолеть, нужно собраться внутри. Есть люди, как отец Христофор, которые умеют тебя мобилизовать — одним своим приказом не растекаться на исповеди, понимаешь? Нет, ты ему четко скажи: ленивая, грубая, не умею благодарить Бога за плохое, — матушка отстукивает ладонью по подлокотнику.
— Как можно благодарить за плохое, за боль?
— Ну вот так, поблагодарить за боль. За то, что Он тебя через боль вразумляет, возвращает. Ну, понимаешь, что есть тайны, есть чудеса? Как бы ни хотелось показать, что ты умеешь и понимаешь все, — всего не раскроешь, что связано с болью. Почему так? А пусть тайна будет, почему. Вот так, и все! Я не стану переводить все на церковный лад, потому что это будет попахивать фанатизмом. А я не хочу, чтобы ты меня считала фанатичкой.
Переход из одной жизни в следующую
— Матушка Вера, вы правда забыли принять лекарство?
— Правда. В 10 утра надо было.
— А вы…
— Не болит пока. Не болит голова у дятла. Ха-ха! Да ладно, не переживай.
— Вам не страшно?
— Ой, сейчас в обморок упаду!.. Даже если бы мне было страшно, зачем я сама себя пугать буду, скажи мне? Ну зачем? Что я, дура, что ли, окончательная? Только идиотка будет сама себя пугать: «А-а-а! Все! Срочно! Юля, я не могу с тобой говорить, я поеду домой таблетку пить!» Зачем?
Матушка Вера смотрит на меня очень сочувственно.
— Во-первых, у меня большой перерыв до вечернего приема, я встряну куда-нибудь, когда приеду домой, все приму. Кроме того, мы в хосписе — если надо будет, я попрошу, тут помогут. А паника зачем? Я видела эти новости про людей, которым будто бы не помогли. Про больного раком, который умер от боли, потому что не смог получить лекарство, кажется… Да, я все понимаю, но… просто в такие вещи как-то не верю. Я не верю, что не получить, не достать. Ты знаешь, нам грех вообще об этом говорить, в наше время, когда столько обезболивающих средств. Тем более в Москве! Это у нас в деревне надо ехать далеко, иногда даже в Тверь. Иногда «скорая» до стариков не доезжает в отдаленные места, потому что машина сломалась или дорога непроезжая — это бывает, да. А тут — в Москве! У меня бабушка, Вера Николаевна, пережила два рака. Умерла знаете какой? Ну совсем молодой, 93 года. А почему? Не верила она, что все будет плохо, что ничего не выписывают, ничего не достать… Почему она в те годы — «совок» был, — умудрялась все получать, что ей нужно? И ведь обычный человек была, никакая не шишка. Все доставала, и совершенно официальным путем. И выжила! А сейчас даже в деревнях люди помощь получают. Но мы почему-то не верим, что нам помогут! Меня очень многие спрашивают: «Почему у тебя все время хорошее настроение? Вот ты узнала, что у тебя рак, а постоянно хихикаешь, рассказываешь анекдоты, всех смешишь». А я не боюсь! Говорят: «Как это ты не боишься смерти, ведь конечная стадия уже, и все!» А для меня смерти нет, это переход из одной жизни в следующую. Страшного суда боюсь, это да, о нем каждый раз перед исповедью думаю… А смерти что бояться? Да, наверное, есть такой неприятный момент, чисто физический. Ну, я уже пожила, я уже старая, у меня взрослые дети, у них свои семьи. У меня муж, который уже умеет жить без меня: у меня это третий рак. В 1998-м удалили матку с придатками, в 2005-м — грудь. И я жива до сих пор! Я жива, вы меня под руки-то не тащите, я своими ногами хожу… пока. Вот так мы, как можем, живем! Можем ходить — ходим. Не можем — не ходим, лежим, охаем, ахаем.
Смеется.
— У меня бывают дни, когда мне плохо, и я вообще встать не могу. Но я все равно «с понтом»: встала, постель застелила, оделась… И сверху легла! Ну вроде как просто отдохнуть. Какая же я больная, ведь не в постели лежу! Ха-ха-ха!
Как послушно умираем
Мы едем в машине по проспекту Мира, везем матушку Веру домой.
— У меня двое детей, — рассказывает она. — Дочка такая прямая, как что-нибудь скажет, меня просто возмущает!.. Но потом похожу, подумаю и понимаю: ведь она была права. А сын! Знаешь, когда делают химию в онкоцентре, начинают вылезать волосы, совсем. А у меня были довольно длинные, и когда я стала видеть их на подушке, и уже в тарелке нашла, сказала сыну: «Толечка, давай сходим в парикмахерскую, пусть меня там побреют наголо, волосня лезет, сил больше нет». И мы пошли в парикмахерскую, рядышком с онкоцентром. Сын еще когда вошел, пошутил: маме моей — самую модную прическу! Девочка побрила, я как в зеркало глянула… Это было что-то из фильмов ужасов! Желтая после химии, как-то морщины резко проявились вдруг, глубокие, будто кто-то специально нарисовал. Ну страшна-а! Но приклеила улыбку от уха до уха, иду к сыну. И вижу, он плачет. Плачет, как мужики плачут: знаешь, вот у него кадык туда-сюда ходит, слезы текут — как же так, мамку побрили. Я на него посмотрела и сама заплакала, мне так жалко стало его! 23 года, сидит парень, плачет. Как это сочетается — он пишет такие глубокие, взрослые стихи, и вдруг такое детское отношение: «Мамочка моя, родненькая, как же, тебя побрили?». Меня это настолько потрясло! Меня и сейчас потрясает, если честно. Я не знаю, плакала бы я на его месте… Думаю, нет. Я бы рассудила: ну да, это моя мама, но так надо — что ж она будет волосню вылавливать из супа? А здесь какая-то поэтическая душа, очень нежная…
Матушка задумывается на мгновение. И вдруг:
— Ладно, вопросы давай свои. Что молчишь? Знаешь, какая у меня любимая песня? Я хочу, чтобы она звучала на моих похоронах. Да не пугайся, песня очень хорошая, Марка Фрейдкина, «Апрельская полька». Слышала? В ней такой глубокий философский смысл, такое сочетание музыки и слов! Я чувствительная бабка. Ее когда слушаю, не могу, всегда реву почему-то…
Мы находим и включаем «Апрельскую польку».
«Я смотрю, как лес в апреле / Солнечные дни обрили / Как природа еле-еле / Выбирает: или-или», — начинается песня.
Матушка Вера заглядывает в тетрадку, чтобы проверить, все ли они сказала, что собиралась.
— Вот тут я написала, что прошла этот путь и в глубину, и в ширину. Что я работала и в провинции, и в Москве, прошла этот путь и как врач, и как больная, в глубину до четвертой стадии, до уже безнадежной. И что пребывание в хосписе, где к тебе относятся с заботой, по-человечески, повышает эффективность обезболивающих средств. Все, у меня больше ничего нет. О, приехали, вот мой подъезд! Еще вопросы?
— Можно вас проводить?
— Ну уж нет, еще чего! Я сама!
«Апрельская полька» еще играет. Аккомпанемент легкий и веселый, как из музыкальной шкатулки. Звучит хрипловатый, глухой, но невероятно оптимистичный голос Фрейдкина: «Как дыханьем руки греем / Как глаза с лица стираем / Как бесстрашно мы стареем / Как послушно умираем».
Матушка Вера выходит из машины и слегка пританцовывает:
— Мне так нравится прыгать под эту музыку! Я не могу!
Улыбается, подмигивает и бодро шагает к подъезду, защищенная от страха верой — с одной стороны, здравым смыслом — с другой.
Вот так она и ушла.
Всем всегда нужный врач
Жизнь матушки, описанная ее дочерью
Вера Масальцева родилась в 1951 году. Окончила Первый медицинский университет им. И. М. Сеченова. Работала заведующей лабораторией в поликлинике № 73 в Москве, а позднее в поликлинике № 40, где «пробивала» сказочно дорогое оборудование для своей лаборатории.
В 30 лет она родила меня, а в 40, в 1991 году, — моего брата Толика. Вскоре родители решили уехать из Москвы — на природу, в деревню. В то время им было тяжело, зарабатывали на трех-четырех работах. А еще они решили, что нас надо спасать от грязи большого города, который страшно нас развратит. Нас поехали спасать в вымершую деревню недалеко от Селигера. Места прекрасные, в глухом лесу: я пешком ходила в школу полтора-два километра — лисы сидят, медведи выходят. Там мама, человек городской, завела кур и коз.
В 1996-м, после того как рукоположили папу, мы переехали в деревню Кичма Тверской области, где он служил в храме. Там мама была абсолютно безотказный, всем всегда нужный врач, в любое время дня и ночи бежала к пациентам. Если кому-то требовалась помощь, она, ни минуты не сомневаясь, как ледокол, врубалась в проблему любой сложности — будь то первая помощь на пожаре и дальнейшее устройство погорельцев, или неожиданная экстренная операция по выправлению сломанного носа, или получение квоты для простого деревенского мальчишки с саркомой кости, которого успешно прооперировали в Москве — абсолютно бесплатно и в самые короткие сроки.
Потом ее позвали работать учителем в деревенской школе. Она организовывала поездки для детей в Москву, с экскурсиями в Дарвиновский и Зоологический музеи, прогулкой по Красной площади. Деревенские дети, которые никогда дальше райцентра не выезжали, были в восторге.
В 1998-м у мамы впервые диагностировали онкологию. В больнице она ходила и всех подзаряжала — такая бесстрашная, как будто все это рядовое, обычное дело. Из тех пациентов в палате, кто падал духом, никто не пережил болезни, даже с более оптимистичными прогнозами. А мама со своей установкой-антистресс тогда выздоровела.
Все решения мама всегда обсуждала с папой, глубоким умом которого всегда восхищалась. Очень крепко принадлежавшие друг другу люди, друг другу предназначенные, они прожили вместе 38 лет.
Сейчас мне 35 лет, моему брату Толе — 25.
Вера Масальцева умерла осенью 2015 года.
Ирина Масальцева