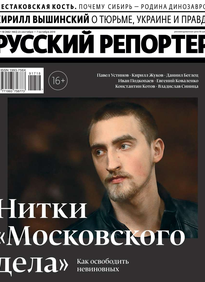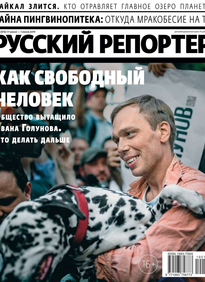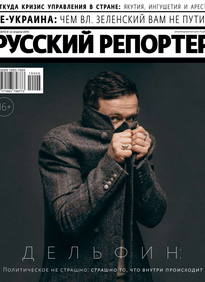ТОП 10 лучших статей российской прессы за Апрель 3, 2015
Не плачь по русским, Аргентина
Автор: Анна Титова. Русский репортер
Аргентина — это плавильный котел по ту сторону экватора. Большинство жителей страны — потомки иммигрантов в самых замысловатых национальных сочетаниях. Русских в стране много, но общего центра притяжения у них нет. Каждый вращается на своей орбите. Кто-то вокруг российского посольства и координационного совета соотечественников, кто-то вокруг монархического кружка, а кто-то и вовсе парит в состоянии национальной невесомости
Жители Буэнос-Айреса до бесконечности спрашивают друг друга: «Как дела?», но никогда не отвечают на этот вопрос. И так понятно: жизнь хороша. Хороша сама по себе, изначально и бесконечно. Хороша, когда тепло и ясно, когда сосед слушает громкую музыку в четыре часа утра, когда тебя уволили с работы и даже когда все катится ко всем чертям. Все аргентинцы руководствуются этим коллективным бессознательным убеждением и никуда не торопятся. Только приезжие поначалу держат прежний беспокойный темп, но очень скоро сбрасывают скорость, чтобы тоже попробовать жизнь на вкус.
— Мы страна третьего мира, — легко признается Пабло и смотрит перед собой с улыбкой Будды. Я тоже улыбаюсь, но не Пабло, а своему стакану, воображая дискуссию о патриотизме где-нибудь в Нижнем Тагиле. Каждую среду Пабло вместе с друзьями выступает в маленьком баре «Вчера», названном так в честь бессмертной песни «Битлз». Он играет на электрогитаре и даже чем-то похож на Пола Маккартни, только в загорелом аргентинском варианте.
— Аргентина классная, — уверен Пабло. — Только здесь, конечно, не как у вас там, — с уважением показывает он горлышком пивной бутылки куда-то в предполагаемое северное полушарие.
— А как у нас там?
— У вас там происходит вся эта большая и странная жизнь, понимаешь? США воюют против ИГИЛ, ЕС вводит санкции против России. А тут… никогда ничего не происходит. Мы как будто живем в параллельном мире.
В разные времена от большой и увлекательной жизни в Европе здесь, в Аргентине, спасались миллионы иммигрантов. Аргентина — это плавильный котел по ту сторону экватора. Как это обычно бывает, первых понаехавших сюда никто не звал — они приплыли сами в качестве колонизаторов. Подданные испанской короны со временем истребили большую часть мужского индейского населения, создали семьи с их женщинами и впоследствии добились независимости от метрополии. После этого знаменательного события большое, но совсем почти пустое государство фактически объявило о наборе граждан. С 1857 по 1940 год к потомкам европейских колонизаторов в огромных количествах присоединились итальянцы и испанцы, бежавшие от голода и неудач. Параллельно с ними к новым берегам отчаливали немцы, французы, хорваты, украинцы, поляки, русские, ирландцы, арабы, армяне, евреи, литовцы и даже швейцарцы. К концу XIX века больше половины жителей Буэнос-Айреса были иностранцами, а сегодня почти все население Аргентины — это потомки иммигрантов в самых замысловатых национальных сочетаниях. Так что Буэнос-Айрес — большой иммигрантский слоеный пирог. Как знать, может быть, Пабло ближе к Полу Маккартни, чем кажется.
Из России в Аргентину едут последние 139 лет. Первыми сюда отправились поволжские немцы, бежавшие в 1876 году от введенной всеобщей воинской повинности. За ними из западных областей Российской империи к берегам Ла-Платы устремились евреи, бежавшие от националистической политики Александра III. Следом в поисках свободной земли и лучшей жизни сюда ехали и обычные крестьяне — украинцы, белорусы, русские, болгары, сербы. Потом настал XX век — в Южную Америку потянулись представители белой эмиграции. А за ними…
***
Свято-Троицкий храм на улице Бразилиа зажат между высокими жилыми новостройками. Табличка с названием прячется за пальмами, а голубые купола можно рассмотреть, только запрокинув голову. В общем, в первый раз я прошла мимо.
— Девушка, служить будут здесь, — вежливо окликает меня женский голос с прибалтийским акцентом. Пожилая леди в соломенной шляпке жестом предлагает последовать за ней.
— Я хожу в эту церковь много лет. Здесь, в Буэнос-Айресе, есть другие православные приходы, но мне туда нельзя.
— Почему?
— Папа белогвардейцем был. Значит, сюда положено ходить. Очень он тосковал по России, плакал.
Ее изящная шляпа в один миг уступает место русскому платку и уже почти без акцента она шепчет:
— Помолитесь за него…
Свято-Троицкий храм, построенный еще в 1901 году, в том числе на пожертвования царя Николая II, в начале XX века превратился в главный бастион белоэмигрантского духа в Аргентине. Здесь не признали революцию в 1917 году, молились за победу Гитлера в 1941 году и решительно отвергли Акт о каноническом общении в 2007-м. Московскую патриархию в Свято-Троицком храме считают «дочерним ведомством НКВД», а Московский патриархат (Аргентинскую епархию, образованную после раскола в годы Второй мировой войны, сейчас возглавляет епископ Леонид Горбачев, у епархии отдельный храм в Буэнос-Айресе, Благовещенский собор на улице Булнес. — «РР») настаивает на том, что в храме на улице Бразилиа собрались раскольники. Православные в Аргентине взаимопонимания не нашли.
Внутри непривычно много утреннего солнечного света. На фоне фарфорового иконостаса теплятся свечи. Распевается хор — две молодые женщины. Остальные по аргентинскому обычаю опаздывают. Часть службы идет на русском, часть на испанском. В целом, все как в российских храмах, только юбки у аргентинских прихожанок короче, а каблучки — выше.
Разными путями оказывались в Аргентине белогвардейцы. Кто-то сразу после гражданской войны плыл в Парагвай, откликнувшись на романтические призывы генерала Беляева, а затем перебирался в более благополучную Аргентину. Но большинство семей белогвардейцев оказались здесь в 1948 году, когда Хуан Доминго Перон издал указ о привлечении иммигрантов.
— Простите, это вы тут интересуетесь жизнью очень старых людей?
Александру Янушевскому 90 лет. Старейший представитель белой эмиграции в Буэнос-Айресе — простой учтивый старичок. Невысокий, узкоплечий, в чистой курточке и аккуратных ботиночках, он похож на состарившегося в одно мгновение гимназиста.
Найти его очень легко. У Янушевского нет страницы в Facebook, нет электронной почты, нет мобильного и даже, кажется, нет обычного телефона. Зато каждое воскресенье, в любую погоду он поднимается на второй этаж Свято-Троицкого храма, аккуратно ставит свою палочку под иконой святого царя-мученика Николая II и два с лишним часа неподвижно стоит на литургии. Для него это также естественно, как для меня читать по утрам новости.
— Пойдем выпьем кофе, — Янушевский быстро стучит палочкой по тротуару. — После каждой службы я много лет подряд заказываю двойной эспрессо в баре на углу.
— Однажды сюда пришел советский научный пароход. На него пускали смотреть. Я в очереди стоять не хотел и кричу матросику: можно по трапу подняться к вам? Он мне сразу по-свойски выпить предложил, а я и говорю: я белогвардейский продукт. Они тогда не поняли, как я тут оказался, — хрипло смеется Янушевский, — дали мне коммунистические газеты почитать. Вот, мол, вспомни родину. А мне вспоминать нечего, я никогда не был в России. Мой отец служил у Врангеля. Из Крыма попал сначала в Галлиполи (совр. Гелиболу, Турция. — «РР») и уже затем в Сербию — тогда Королевство Сербии, Хорватии и Словении. Там я и родился в 1925 году.
В те годы король Сербии Александр I приютил в стране русскую монархическую эмиграцию, которая не спешила далеко уезжать, надеясь на скорый крах большевиков. Русские офицеры полностью сохранили в Сербии прежний уклад жизни — остались при своей форме и званиях, организовали штаб Русского общевоинского союза и даже служили в боевых частях, охраняя границы. На содержании короля был и Кадетский корпус, где учился Александр Янушевский.
— Я воевал в РОА (Русская освободительная армия под руководством генерала Власова, воевавшая на стороне Третьего рейха против СССР. — «РР»). Правда, Власова никогда не видел. Только в кино. Когда началась война, нас, кадетскую молодежь, собрал генерал Скородумов и объявил: будет создана русская воинская часть для борьбы против большевиков на востоке. Он произнес большую речь, и последней его фразой было «я вас поведу в Россию». Так я оказался в Русском охранном корпусе. Мне еще не было 16 лет.
Папа Янушевского — крымский татарин, мама — донская казачка из Новочеркасска. Мачеха — дочь поляка, царского лекаря, муж сестры — венгр, а сам он по паспорту югослав. Между двумя войнами в Европе смешалось все, в том числе национальности внутри отдельно взятой семьи.
— Много вы успели повоевать?
— Совсем нет. Немцы поздно предоставили Власову свободу — в ноябре 1944 года. Конец войны застал меня в Чехии. Мы с нашей ротой выжидали: придут американцы — увидим, что они станут делать. Поговаривали, что продолжат воевать, но уже против Советского Союза. В Чехии на форму РОА смотрели косо, но нас не трогали: вот придут «братья», пусть сами вас вешают…
Янушевский говорит голосом старой, заслушанной пластинки. Звук то чуть дребезжит, то гаснет, но затем возвращается с прежней силой.
— И тут в один прекрасный день вдруг — пух! — американцы. «Вы кто? Русская армия? Единственная русская армия — это армия Сталина. Приходите сдаваться в плен на площадь через два часа. Мы поняли: надо драпать. Нас четверо было, корешей. Вокруг все кишит: танки американские, пленные немецкие, а мы идем себе спокойно по шоссе, курим и стараемся не оглядываться. Ну хоть бы одному америкашке пришло в голову спросить — куда это мы! Уже в Германии нас отвели в какой-то лагерь для беженцев. Начальником оказался сербский коммунист. Мы поняли, что сейчас придет НКВД, смерши, вся эта компания — и нам не поздоровится. Ну и смотали удочки.
Бар постепенно заполняется щебечущими обитателями района Сан-Тельмо. Ближе к обеду они пришли сюда позавтракать с маленькими детьми. От круассанов до кофемашины и обратно прогуливается официант Хорхе, на улице друг другу вежливо кланяются соседи. Где-то играет легкомысленная милонга. Рассказ Янушевского звучит так же по-аргентински безмятежно. С высоты своих лет он смотрит на прах пережитых исторических событий, как пассажир самолета на нагромождение туч далеко внизу.
— Неужели у вас в самом деле была надежда на то, что вы придете в Россию с немцами и победите Сталина?
— Считали так: в немецкой армии много бывших царских офицеров из Прибалтики, они поддерживали русских. Потом, семь миллионов пленных! — Старичок чуть приподнимается на стуле. — Воспользоваться бы этим моментом, не гонять их по лагерям, а предложить: кто хочет, пойдемте против советской власти. Это была последняя попытка и надежда — формировать русские части с национальным духом. И самое главное: армия немецкая нам сочувствовала, а вот их партийное начальство — нет. Мы шли сбрасывать советскую власть с помощью немцев, потому что другой силы у нас не было. А потом нужно было и немцев останавливать.
— Хорошо, допустим, свергли бы русские войска вместе с немцами Сталина. А дальше-то что?
— Дружба народов, — разводит руками Янушевский.
— Это каких?
— Немецкого и русского!
Несколько секунд мы молча смотрим друг на друга под неистовый шум соковыжималки.
— Да, да, знаю, что вы думаете. Немцы — проклятые фашисты, я страшный предатель родины, — с явным равнодушием к моему мнению говорит Янушевский.
— Нет, я думаю о бесконечных, трагичных и странных русских иллюзиях.
— Знаете, накануне войны в наш кадетский корпус пришли немцы. У нас там в музее висели портреты царя, великих князей, предводителей белого движения. Были и немецкие знамена, взятые еще в 1761 году. Немцы их увидели, попросили отдать. Ну, «нет» не скажешь, это понятно. Они свернули свои знамена и ушли. Теперь конец войны. В Белграде остались только наши преподаватели, не захотели бежать. Приходит русский солдатик: открывайте музей. Что-то ему отвечают, он — бах! — пулю в лоб. Сапогом дверь выбил, все, что счел нужным, — забрал. А остальное, не разбираясь, подожгли. Это свои, русские.
— Вам когда-нибудь хотелось побывать в России?
— Когда-то да. Теперь уже, наверно, нет. Теперь там, в общем, свобода, как и здесь: хочешь — в храм свой ходи. В частную жизнь тоже вроде никто не лезет. Но мне кажется, что в России сейчас продолжение советской власти. Во всем, что ни происходит, кто-то виноват. Америка, капиталистическое окружение, недорезанные буржуи. И Путина не поймешь. Российский флаг вроде бело-красно-синий, а знамя вооруженных сил все равно красное. Красные звезды на кокардах, тут же — царские орлы. И Ленин на площади бесконечно отдыхает. Лично для меня той России нет. И дело не в царе. Национальной, православной страны нет и не будет. Потому что весь мир катится к чертовой матери, — подумав, спокойно резюмирует Янушевский.
В Буэнос-Айресе он живет почти 70 лет. За все это время у него так и не появилось друзей-аргентинцев. Он работал на стройке, затем секретарем в конторе. Потом открыл свою мастерскую по пошиву пластиковых чехлов. Вшивать в них молнии ему помогала Светлана из «новых русских». Так здесь называют приехавших в 1990-х годах. Первый раз он женился только в 65 лет — на русской иммигрантке из Ростова-на-Дону. Детей у него нет.
— Народ здесь добрый и простой, но для меня это иностранцы. Так же, как тогда, в детстве, иностранцами были сербы. В 1949 году в Буэнос-Айрес прибыли 255 выходцев из охранного корпуса. Сейчас в живых осталось пять от силы.
Даже в этом, казалось бы, исключительно узком круге не все дружат. Ниточки, связывающие русских, никогда не видевших Россию, рвутся. Кто-то ходит в другой храм, признав над собой духовную власть Московского патриархата, кто-то, как Янушевский, всегда будет верен только главному храму потомков белогвардейцев.
— Я один тут в округе болтаюсь бесконечно. Но тоже скоро в Англию поеду — на Британское кладбище, — спасается безжалостной старческой самоиронией Янушевский и, посмеиваясь, всматривается в быстрое движение улицы.
***
В 1948 году в Буэнос-Айресе оказались не только семьи белых эмигрантов.
— Узнаешь меня легко: я большой и толстый, как настоящий аргентинец, — хохочет в трубку Валерий Рикардо Еремин, чье рыхлое фрикативное «г» тут же выдает южнороссийское происхождение.
— Мой папа родился в небольшом городке, где Ростов, черт его знает, Красный…
— Сулин?
— Точно!
— У меня оттуда родом бабушка.
Мое знакомство с аргентинским иммигрантом во втором поколении началось с откровения: мы вполне можем быть дальними родственниками.
На самом деле Валик — так его все здесь зовут — похож на местного, как моя бабушка на женщину племени Шипибо-конибо. У него нос картошкой и лохматая русая голова, которую он, смеясь, щедро запрокидывает назад.
В центре Буэнос-Айреса у Еремина своя шиномонтажная мастерская.
— В Аргентине бизнес сложно делать. Вот у меня шесть человек работают, один взял и не пришел сегодня. Но это еще что! Бывало и четверо прогуливали сразу.
— А что, в Аргентине за прогулы не наказывают?
— Законы тут есть, конечно. Но только они не работают. Да и как наказывать, это ж почти семья, черт его знает, — хохочет Валик.
На часах время обеда.
— Поедем, город покажу, — начальник решительно покидает офис. Рабочие, предвкушая свободу, все вместе радостно провожают нас до машины.
Отец Валика, как и Александр Янушевский, оказался в Аргентине в 1948 году. И даже проделал почти тот же маршрут: из России попал в Германию, из Германии — в Италию, из Италии — в Аргентину.
— Во время войны моего папу забрали с собой немцы — дорогу починять. Он ни с кем попрощаться даже не успел.
Отец Еремина оказался в Южном полушарии в качестве DP (displaced person) — перемещенного лица, или попросту беженца. Угнанные в плен или на работу — вторая большая группа иммигрантов, которая вместе с белыми и их потомками после войны спасалась здесь от преследования на родине.
Прошло много лет. Теперь его сын-аргентинец — успешный бизнесмен средней руки, член российского координационного совета соотечественников, президент клуба Владимира Маяковского и, вполне может быть, — самый большой фанат России в Южном полушарии.
Еще в Аргентине есть клубы Горького, Белинского и даже Островского. При активной поддержке посольства СССР их создавали русские, белорусские и украинские крестьяне, прибывшие из Польши. Кстати, это еще один пласт русской эмиграции со своей историей, своими иллюзиями и сломанными судьбами. После советско-польской войны, в 1921 году, в составе Польши оказались земли с русским, белорусским и украинским населением, которое поляки активно дискриминировали. Советский Союз для этих людей оказался отрезан границей. Недоступность родины порождала в среде униженных русскоязычных граждан прекрасные легенды о счастливой и справедливой коммунистической стране, от которой их насильно оторвали. В 1930-е годы им выпал шанс покинуть ненавистную Польшу и отправиться в Канаду или Латинскую Америку по программе переселения.
Эти люди, любившие Советский Союз уже за то, что он не был Польшей, во время Второй мировой собирали в Аргентине и отправляли в СССР одежду и деньги, а когда после войны открылось советское посольство, — получили паспорта и устремились в Северное полушарие навстречу стране своей мечты. Тех, кому тогда удалось вернуться назад, пусть даже голыми, в Аргентине считали настоящими счастливчиками.
Сегодня эти клубы либо окончательно загнулись, либо обрели новую форму жизни. Под руководством Еремина в Маяковском танцуют русские танцы, наряжают на Новый год елку и лепят вареники. То есть занимаются тем, что он считает неотъемлемым атрибутом жизни каждого русского человека.
— На всех больших городских праздниках наш клуб продает русскую пищу. А еще я всегда, где только можно, приставляю наш русский флаг, — хвастается Валик.
Валик любит Россию по-детски. Простой, ничего не требующей взамен любовью. Не вдаваясь в подробности жизни предмета своих чувств, он активно старается заразить своей страстью всех вокруг.
— Видишь эту площадь? Я пытался допроситься в государстве, чтобы ее назвали в честь России. Но в этом районе у всех улиц женские имена, поэтому не разрешили, — вздыхает Валик. По-русски Еремин говорил с родителями только до шести лет, но удивительным образом его формулировки попадают в самую суть явления: «дамы туда приходят крутиться», «все там только чухаются и ничего не делают».
— В Аргентине русских агрупаций (исп. agrupación, «группа». — «РР») до сих пор много, но по-русски уже мало кто говорит. Приезжаю я однажды в Мисьонес, там бабушки сидят на лавочке в платочках. «Здравствуйте!», — говорю, — а они мне в ответ «Ке»? (исп. ¿que?, «что?». — «РР»), — заливается Валик. Он смеется каждый раз, когда рассказывает о неловких моментах жизни — и своей, и жизни в общем.
— В координационном совете я уже десять лет, но иногда, знаешь, надоедает. Они там ссорятся постоянно. А у меня натура такая: встречаться-целоваться! Сейчас из-за этой Украины все переругались. А в Аргентине русские, украинцы и белорусы всегда мирно жили. На каждом мероприятии все три флага вместе выставляли, — вспоминает в очередной раз Еремин свой любимый патриотический атрибут.
Душа Еремина широка, как река Рио-де-ла-Плата. Наверно, потому, что русская и аргентинская одновременно. Тусовщик до самозабвения, Валик обожает общение во всех его проявлениях. Свои многочисленные связи он использует с удовольствием и без разбора: вчера — чтобы вытащить из беды незнакомого человека, сегодня — чтобы бесплатно посетить туалет в центре города, раз уж все равно проезжаем шиномонтажную мастерскую его приятеля.
— Вот я тебя расскажу. В 2000 году наехало сюда много украинцев и русских. Я так обрадовался! Думал, они будут приходить в клуб. Но они совсем редко заходят. Ну совсем. Я спрашиваю — в чем причина? А на кой черт это нам нужно, говорят? Ну как же, это же наша пища, наши привычки, наши танцы…
— Они тоже живут разобщенно?
— Они? Мы все живем разобщенно, и мне это очень больно. Они, знаешь, приехали какие-то обиженные в нулевые годы. Россия им чего-то не додала. Мой отец почти голый приплыл в Аргентину и всю жизнь по России ревел. Ну хорошо. А где вот их сыновья еще вареников покушают? — Валик расстраивается почти до слез. — Нет, ничего, ничего не нужно.
Через Валика в последнюю волну иммиграции прошло примерно сорок русских. Приходили, просили помощи. Кто-то, пока не освоился, оставался подрабатывать в мастерской, кто-то снимал у него жилье. Сейчас в апартаментах над мастерской живет Евгений.
— Нормально у меня все, — пожимает он плечами, — холодильники ремонтирую. Тут все знают, что если ты русский — значит, рукастый, все качественно сделаешь.
Евгений переехал в Буэнос-Айрес в 2000 году вместе с семьей. Бежали от экономического кризиса, как он говорит. И от общей нескладности быта среднестатистического россиянина — это мне так кажется. Вся внешность Евгения как будто транслирует: я родом из небольшого городка, составленного из тусклых панельных домов. Зимы в этом городе серые, а лето душное. Люди скучные, а собаки бездомные. И никогда ничего не происходит.
— С другими русскими общаетесь?
— Нет, и не хочу. На улице русскую речь услышу — мимо пройду, — уверенно отвечает Евгений.
— Почему?
— А зачем мне это? Они станут меня дергать: как ты это сделал, как это. А мне никогда не помогали. Я тут сам всего добивался.
***
По Буэнос-Айресу летит автобус №152. Развалившись сразу на двух сиденьях, в салоне голосит круглый мужик: «Обожаю Аргентину! Ла-ла-ла-ла! Обожаю Аргентину!» Он, конечно, выпил, но ровно столько, сколько нужно для безобидного душевного единения с пассажирами. «Италия — тоже отличная страна! Ла-ла-ла-ла», — громко признается он в своих симпатиях под понимающими взглядами окружающих.
Питерский историк Саша Дементьев тоже явно одобряет эту песню-экспромт, мерно покачиваясь на поручне автобуса. Саша уехал из России четыре года назад. Любовь, кризис, деньги, политика не имеют к его решению никакого отношения. Он отправился знакомиться с другим миром. Полгода поработал на Аляске, приезжал спеть пару песен прохожим Сеула, но в итоге близко подружился с Буэнос-Айресом. У Саши, конечно, есть гитара, но романтикой в духе «бременских музыкантов» его южноамериканская жизнь не ограничивается. Саша знает историю Буэнос-Айреса вплоть до истории винтика, скрепляющего рельсы со шпалами на вокзале города, свободно говорит на четырех языках и пишет диссертацию на тему восточноевропейской миграции в Аргентину.
— Я люблю Петербург, но уехал, потому что испугался рутины. Помню, как рассказывал, что хочу увидеть другие страны, а знакомые мужики мне отвечали с высоты своих лет — ну да, мы тоже так в молодости рассуждали, Саня. И тогда я понял: э нет, ребята, мне не слабо исполнить свою мечту.
Теперь Саша живет той свободной жизнью, которой обыкновенно скрытно завидуют большинство тех, кто предпочитает запастись хотя бы на год вперед уютным ощущением постоянства. Он регулярно и безжалостно отпиливает сук, на котором сидит, падает в неизвестность и получает свой приз — конфуцианское наслаждение от преодоления трудностей. Его любимая история — как, оказавшись на пороге тотального безденежья, он в самый критический момент чудом устроился на работу официантом в Буэнос-Айресе, каждый вечер стирал свою единственную белую рубашку и был совершенно счастлив.
Прошло несколько лет. Саша поступил в местный университет, снял квартиру в центре города и уже начинает задумываться о том, что жизнь как-то угрожающе приходит в равновесие.
— В Аргентине я понял, что отношение к жизни может быть другим. Люди не загоняют себя до смерти в беличьем колесе. Здесь после школы можно работать механиком, а в тридцать лет спокойно поступить в университет. А почему нет? Ради чего стоит так сильно спешить с карьерой? Здесь можно быть государственным чиновником и критиковать власть направо и налево. В Аргентине всегда был много еды и мало людей. Национальных амбиций ни у кого нет, и в этом смысле — нет никакой дискриминации.
— Аргентина — это действительно та страна, где умеют любить жизнь?
— В некотором смысле это слишком поэтичный взгляд. Для меня как историка Буэнос-Айрес — ко всему еще и то место, где текли реки крови, да такие, что нам сейчас не представить. Да, последние четырнадцать лет здесь спокойно. И мир кажется незыблемым.
— Но и в этой безмятежности русские не всегда понимают друг друга.
— Каждый русский, что приезжает сюда, навсегда остается в том времени, из которого уехал. Остается с Россией своего образца. Для белых — это Российская империя и православие, для бывших крестьян, бежавших из Польши, — великий и справедливый СССР, для выехавших в 1990-е годы — бедность и хаос. Может быть, поэтому они не находят общий язык. Многие из тех, кто приехал в 1990-е, так и не адаптировались в Аргентине. Люди уезжали из России уже с измененным отношением к богатым — и привозили это недоверие сюда. Они чувствовали себя униженными и продолжали жить так, как жили бы в России, — торопились купить жилье, но не разобравшись толком в местности, покупали его в плохих и опасных районах. Не учили язык, не старались общаться, в общем, так и не поняли другой страны.
Хотя многие иммигранты из 1990-х годов устроились неплохо. Как, например, родители Ильи — аргентинского военного моряка родом из Луганска. Мама — парикмахер, папа — инкассатор. Правда, душевного комфорта они здесь так и не обрели, поэтому накопили денег и собирались возвращаться на родину. «Но тут грянула эта ерунда», — так называет Илья то, что сейчас происходит на Украине. Мама с папой остались дома. В Буэнос-Айресе.
— Стоит ли вообще делить мир на «нас» и «них»? Все эти национальные различия у нас в голове. Мир больше этого, — улыбается своим заключениям Саша. — Знаешь, за что я люблю Буэнос-Айрес? Здесь в два часа ночи можно пойти в книжный магазин и купить нужную тебе книгу. Кстати, здесь полно самых разных книг о России, полно переведенных русских писателей. И это не только Чехов. Тут вообще нами интересуются. Вернусь ли я в Россию? Не знаю. Но в Питер, конечно, хочется.
— А мне еще Челябинск нравится…
Мы сидим, облокотившись на горячие камни, у коричневой воды Рио-де-ла-Платы.
«Это страна страсти и красоты, где человек никогда не будет до конца счастлив, но которую невозможно оставить навсегда. Потому что те, кто уезжают, умирают от ностальгии, задушенные слезами», — напевает по-испански Саша. О России? Об Аргентине?
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.