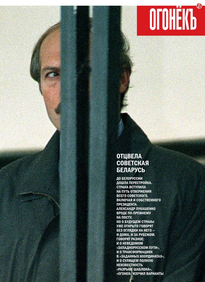За время, прошедшее после провала ГКЧП, страна успела успешно позабыть, что произошло в августе 1991-го, вырастить новое поколение граждан, которым это уже не интересно, и несколько раз пересмотреть свою новейшую историю. Очередной, уже 25-летний юбилей памятного августа обещает в памяти не остаться вовсе: нынешней власти август 91-го не дорог, социологи говорят о "логике забвения и отталкивания", историки кивают на "эффект живых" — это когда оценивать недавнее прошлое не рекомендуется, поскольку устоявшегося мнения о нем в ввиду свежести случившегося у современников не сложилось. В парадоксах памяти разбирался "Огонек".
У памятных дат тоже своя судьба: скажем, все юбилеи Дня Победы похожи друг на друга, но ни один юбилей августовского путча 1991 года не похож на предыдущий. От одной пятилетки к другой акценты меняются.
За минувшие 25 лет вдохновенная защита Белого дома успела побывать героической вехой в судьбе страны, исторической загадкой, сценой из жизни "лихих 90-х". Официального культа вокруг событий 19-21 августа не возникло, и в этом смысле юбилей победы над путчем, так и не став праздником демократии, остался у нас в стране самым демократичным праздником — каждый в конечном итоге сам решает, как его вспоминать и чем.
— С августом 1991-го произошла странная история: мы его современники, но сейчас искренне не помним, что тогда было,— считает Ольга Малинова, главный научный сотрудник ИНИОН РАН.— Наша память определенным образом отформатирована последующими событиями и более поздними оценками. Скажем, 1991 год в общественном сознании больше связан с декабрем и Беловежскими соглашениями, чем с августом и защитой Белого дома. Более того, уже забылось, что именно путчисты ставили своей целью сорвать подписание нового союзного договора, поэтому вина за разрушение империи (которое сегодня оценивается как преступление) легла на героев августа 91-го. Вся эта конструкция бросает тень на события 25-летней давности. А не защищает их почти ничего: Ельцин не стал по горячим следам делать эти дни выходными, ну а потом трагические события октября 1993 года, происходившие на том же месте, заслонили собой август 1991-го. Праздник мог бы быть, но праздника не состоялось.
"Несостоявшийся праздник" тем не менее не выкинешь из личных историй. Он принадлежит народному, а не официальному календарю. И, пожалуй, один из новых акцентов наступающей годовщины — в желании обнаружить связь прошедших 25 лет, установить родство (а не вопиющее отличие, провал) между 1991-м и 2016-м. И речь здесь идет не столько об исторической логике, сколько о логике жизни каждого, кто в эти 25 лет жил.
90-е не уходили
С начала 2000-х в России чуть ли не мантрой стало убеждение, что "90-е не вернутся никогда": кто-то этому радовался, кто-то по этому поводу грустил. В разное время ожидалось возвращение Советского Союза, царской России (и проводились соответствующие исторические параллели), и только 90-е числились "отрезанным ломтем". Так мы и не заметили, что 90-е на самом деле возвращаются — поучительными примерами, поставленными задачами, нерешенными проблемами.
— Мы все живем в том потоке, волне, которая возникла в 90-е и вершиной которой был август 1991-го,— уверен Александр Сунгуров, руководитель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.— В каком-то смысле мы из 90-х не выходили, как в XIX веке Россия "не выходила" из реформ Александра II, даже "сосредотачиваясь", даже впадая в реакцию. Водораздел проходит не между 90-ми и 2000-ми, а между СССР и 90-ми — и это как раз необратимая вещь. Что хорошего осталось нам от 91-го года? Скажем, даже опыт, что можно остановить танки,— опыт, которого советский человек не имел и который, кто знает, нам еще может пригодиться.
Родом из 90-х, из августа 1991-го, и очень современный запрос на качество жизни. На сложность этой жизни во всех проявлениях: от требования свободы слова до требования защищать окружающую среду.
— Вот мы сегодня слышим призывы построить постиндустриальное общество, члены которого будут отличаться креативностью, свободой мышления, но почему-то не вспоминаем, что эти призывы в России уже звучали в начале 90-х годов,— поясняет Александр Шубин, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории РАН.— Именно тогда мы попытались взять этот барьер: построить новое общество, войти в "первый мир" — и не смогли. И дело не в заговоре элит или мировой закулисы. Общество не смогло обеспечить выполнение этой программы, которая была очень популярна. В августе 1991 года наступил важный перелом, после которого началось движение вспять, и если мы хотим снова двигаться вперед, "второй подход" к барьеру неизбежен. Я сохраняю оптимизм, потому что истории известны такие возвращения: например, уровень политической культуры в нашей стране в 30-е годы ХХ века был отброшен ко временам XVIII, а то и XVI веков, но уже в 60-80-е годы упущенное вполне было восполнено, наша политическая культура снова стала сложной. Позднесоветский социально-политический капитал важен для нас и сегодня: чем острее будут вставать проблемы построения общества будущего, тем ближе нам будут уроки начала 90-х.
Может, тогда же обнаружится, что многие наши современные "суверенные черты" — они не домонгольские, не царские, не советские, а тоже родом из 90-х. Так, необязательно реконструировать портреты прадедов, чтобы все о себе узнать, иногда и лица родителей бывают поучительны.
— 90-е годы оставили чрезвычайно много невыученных уроков,— считает Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономфака МГУ.— Оттуда родом, например, любовь к "мудрому авторитаризму": уверенность, что можно узкой группой лиц определять политику страны, причем безошибочно, раз и навсегда. Оттуда стремление к "окукливанию" нашей элиты: когда люди, забираясь на высшие этажи власти, хотят сжечь за собой все лестницы и выключить все лифты, образуя "ближний круг". Оттуда неумение закрепить достигнутый результат, сделать так, чтобы не было скатывания назад... Эти особенности нашей новой государственности проявились уже в 90-е, а дальше просто развивались и компрометировали сами себя.
Да и весь российский политический режим, по мысли Владимира Гельмана из Европейского университета в Санкт-Петербурге, родом как раз из 1990-х. Из августа 1991 года не угадывалось то, где Россия окажется сейчас. Но каждая новая "развилка" истории после того августа — роспуск парламента в 1993 году, избрание Ельцина на второй срок в 1996 году, "война за ельцинское наследство" и приход к власти Путина в 1999 году, его возвращение на пост президента в 2011-2012 годах — подводила к этому итогу. А все вместе складывается в цельную картину посткоммунистического транзита и когда-нибудь, когда транзит (не только экономический, но и политический, и национально-государственный) завершится, станет одной большой главой русской истории.
Где потеряно будущее
Есть ли что-то из 90-х, что ушло совсем, как говорят, бесследно? Россияне, конечно, надеются, что совсем ушел длительный трансформационный спад в экономике, что даже нынешний кризис ни к чему подобному не приведет. Ученые, однако, обращают внимание на другое.
— Знаете, что существенное было утрачено? Ресурс оптимизма и энтузиазма,— замечает Олег Буклемишев.— И вместе с этим редким ресурсом пропал образ будущего страны: мы уже очень давно без него живем, потому что не только народ, но и элиты боятся идти вперед.
Либеральному экономисту вторит историк-социалист: по мысли Александра Шубина, во многом обман ожиданий, которые были у общества в 1991 году, подорвал веру россиян в "проекты будущего".
Последние несколько лет, как легко убедиться, Россия пытается противопоставить тому "обвалу будущего" новые идеи. Из рукава уже доставались проекты 1000-летнего царства, русского мира, "крымской весны". Возникал даже временно живой энтузиазм... Но обращенность в прошлое в разных слоях общества остается, а страх перед будущим не уходит. Может, это все потому, что мы ищем будущее не там, где его потеряли. Может, именно поэтому нужно вернуться в 90-е, вернее — вернуть себе 90-е.
— Пожалуй, мы не должны сегодня давать оценок тому периоду,— поясняет Елена Малышева, декан факультета архивного дела ИАИ РГГУ.— Потому что 90-е для нас — это то, что во французской историографии очень правильно называется "историей живых". К ней нельзя применять те же подходы, что к более отдаленным эпохам: уровень субъективизма очень высок. Если мы, например, будем на лекциях рассказывать студентам, кто тогда был прав, а кто виноват, а они в семьях будут слышать совсем иные рассказы, возникнет болезненный разрыв. Пусть оценки дают историки, которые придут нам на смену. Но у нас есть другая забота: сохранить память о 90-х. Нужно говорить об их сложности со студентами, нужно записывать рассказы очевидцев. Этого, кроме нас, никто не сделает, а самая невосполнимая потеря в истории — это всегда потеря памяти.