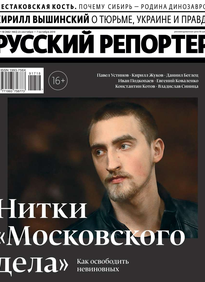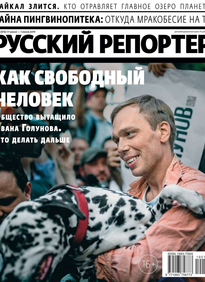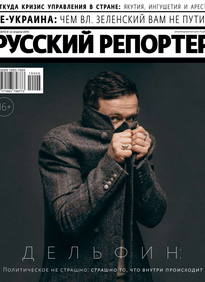ТОП 10 лучших статей российской прессы за Ноя. 13, 2017
Жили и жили
Автор: Игорь Найденов. Русский Репортер
Век революции в портретах человека, дома, города
Юбилей революции ли, государственного переворота ли – как кому нравится, но в любом случае ключевое для российской истории событие XX – мы решили отметить с помощью полевого журналистского исследования. Корреспонденты «Русского репортера» разыскали столетних человека, дом и город, проникли на территории их памяти и пришли к выводу, что минувший век страна и ее люди прожили словно отдельно друг от друга, в параллельных реальностях
Человек столетний
— Мне сто лет, а я думаю, что вчера родилась. Думаю, вот прожила я сто лет, а как вроде и не жила. Даже не думала столько прожить, а я прожила, — говорит-приговаривает Анна Дементьевна Русакова из деревни Жабкино, что рядом с железнодорожной станцией Битца, в полушаге от Москвы. — Я в Бога верую, я Богу молюсь, я причащаюсь. Может, Он есть, а может, Его и нет. Я же не знаю.
Она родилась век назад ровно. Сын Виктор приносит материн паспорт, чтобы удостоверить, что все по-честному. Так и есть. 12 октября 1917 года. Место рождения — село Морозово-Борки Сапожковского района Рязанской области.
Вот дела: так ее, получается, родители зачали в февральскую революцию, а на свет она появилась — в октябрьскую?
Старушка сказочная. Сухонькая, бодрая, и глаз внимательный, острый. Легкие валенки для деревянного пола, нарядный головной платок, серьги золотые, сорок лет не снимавшиеся, потому как замки заело от времени. Как из сказки и речь ее.
— Надо всех любить. Уважать. И быть попроще, — сходу выдает она свой рецепт долгожительства.
Но нам нужны подробности.
1917–1927. Революция, Гражданская война
— Ну, родилась я на Рязанщине. Семья у нас была большая. Нас десять детей было, я самая младшая, десятая. У нас был сад, дом пополовину дядин, пополовину наш. И двор кирпичный. Это еще при единоличной жизни. Отец мой кто был? Отец мой был крестьянин. Все умел делать, все. Машину любую починит, инструмент. Отец у нас был непьющий. Тогда были трактиры. Вот мужики пойдут в трактир, чай пить, а отец наш, Дементий Иваныч, не идет. Тогда были калачи, какие-то кислые. А он маленький ростом. Повешает на себя эти калачи, несет. Мама ему: «Чего ты в трактир не сходил, чай не попил!?» А он: «А-а-а, я на эти деньги калачи купил, детям хватит на неделю есть». Вот такое у нас первое детство было.
— А как помещиков разоряли, помните?
— Маленькая я была — не помню. Про погромы мама рассказывала. Бяжали, все громили, жгли. Вот зачем царей жгли? Вот какой народ-то глупый. Тащили кто чего. Старшая моя сестра с двоюродной — тоже пошли. Принесли портрет: женщина грудью ребенка кормит. Мама говорила им: не надо нам этого, а то еще придут и убьют за это.
— Гражданская война вас как-то коснулась?
— Один брат мой, Тимофей, в гражданскую и погиб. Его в восемнадцать лет взяли, в 19-м году, мальчик молодой.
— Брат за кого воевал: за белых или за красных?
— А кто их знает. Война есть война.
— Так революция — хорошо или нет?
— Конечно, эти цари тоже хороши! Люди до революции тоже ведь жили — мучились. В бедности жили, земли у них не было. Вот зачем эти цари так людей-то обижали? Давали бы людям немножко землю. Мама моя рассказывала: ходили к ним — работали. А что платили? Копейки. Покормят — это да. Кусочек детям домой дадут, хлебца край с собой, если дадут. А платили бы хорошо, и революции бы не было. И вот кажный правитель обижает. Бедному народу всегда плохо.
— Вы говорите, у вас было хорошим первое детство. Было и второе?
— Во втором детстве ничего хорошего у меня не было. Я тебе же говорю. У нас огород по угол отрезали. Земли-то не было, отобрали. Где мне отец что-нибудь возьмет, где родители возьмут? Вот, мне родители платка не купили.
1927–1937. Коллективизация, раскулачивание
— Кем ваш отец считался на деревне: середняк, кулак?
— Кулак считался. А чего кулак-то?! Он же своим трудом. Лошади у нас были — красивые, хорошие. Лошади три было. А вот сейчас-то — кулаки. Глянь, как живут-то богато. Вон, их в Думу насажали. А у нас в деревне бабка получает две тыщи.
— Вас раскулачивали?
— А то не раскулачивали! Мне, может, лет десять было, чуть боле. Лошади, коровы — все отобрали, одну только корову оставили. И ходили. Придут — ищут, зыркают по углам, где что взять.
— Страшно было, обидно?
— Страшно. Я тебе говорю. Девять семей в нашем сельсовете сослали. В двенадцать часов ночи пришли. Отца не тронули, он уже старый был, 1866-го года. Ему даже паспорта не давали сколько лет. А сестры и брата семьи мы провожали. У сестры ребеночек маленький. С ружьями, стрельбой. Как банду провожали. И в Урал их прислали. Они приехали — там голые бараки. Брат там и погиб в Урале, умер.
— Как колхозы создавали?
— У нас такая земля — черноземь. Глянешь, по один бок — рожь, по другой — пашеница. Море — поглядеть. Красота. И вот начали эти колхозы. И все! У всех скотину отобрали. Выгоняли нашу корову единственную. Мама плачет: «Все у нас взяли, есть нечего». Никогда простой мужик никогда хорошо не живет. И поныне, и тогда, и всегда.
— Как же вы жили без скотины?
— Я с десяти лет пошла подрабатывать. Нас не брали с братом в колхоз работать, потому как раскулаченные. А отца брали, как он умелец. Мне лет 12 было. Мы работали, а я плачу — так соскучилась по маме. Пришла одна женщина: «Нюр, ну давай я тебя в Москву пристрою — прислугой». «Нет, — говорю, — я поеду домой». Приезжаю. Покров как раз. Престольный праздник. Они пшено толкут. Я села на лавочке. Сноха приходит. А потом мама меня видит и говорит: «Зачем пришла, чего делать-то будешь, чего есть будем?» А сноха: «Мам, ну зачем ты так ее обижаешь, проживем как-нибудь, мы будем помогать».
Потом сестра с Урала присылает письмо: «Мам, присылай ее сюда, мы ее устроим на работу». Я и поехала, мне 16 лет было. Меня сестра устроила грузчиком на завод «Магнезит». Там ей говорят: «Зачем ты ее устроила грузчиком, она еще молоденькая». А она: «Поболе денег заработает».
Вот, составы идут: то с кирпичом, то с углем. Надо разгружать, надо нагружать. И я себе накупила — чего? Два одеяла накупила, мануфактуры двести метров. И привезла себе. Год я там прожила. Каких только туда не наслали: и татар, и всех. Вот такая моя жизнь проходила.
— Вы когда замуж вышли?
— В 20 лет я вышла замуж. Он у меня учитель был, в начальной школе.
— Учитель выбрал вас за красоту, наверное?
— Ну, наверное, понравилась я ему. Я и пошла, что он учитель. А если б не учитель, я никогда бы и не пошла. Он мне не очень нравился. А пошла. Думаю: он учитель, он все-таки копейки получит, а что колхозник?
— Так вы это по расчету?
— Ну конечно. Он учил по две смены. Хоть и не такая большая деревня, а детей полно. Иной раз придет вечером, целый день учит. Тяжко мы жили, трудно.
— А дети ваши?
— А что — дети? Пошли у меня дети. Троих родила. А потом началась война. Мужа взяли на войну. Я осталась с тройми детьми. Вот.
1937–1947. Великая Отечественная война
— Что у вас в жизни происходило в конце 1930-х?
— Мама умерла у меня. Рано — в 65 лет, когда мне было 22 года. С молодости я без мамы. Я ведь последняя была. Спала, наверное, лет до 17 с мамой. Бывало, придешь, маме пожалишься, когда плохо. А мамы нет — все.
— Помните, как войну объявили?
— Ну, объявили и объявили. Сказали, война, забираем всех. Вот, я жила в деревне. 80 дворов, 80 мужиков. У иных уж и сыновья были взрослые. И всех взяли. А с войны явились — три человека. Все погибли. Все. Три брата моих на войне погибли.
— Без мужей как выживали?
— Жили и жили. Вот, пахали мы. Лошадей всех загнали на войну. Оставили мало. Нас заставляли работать. Огороды. Копать тяжело. Мы запрягались в плугу. Четыре бабы тут, четыре — тут. 40 соток до обеда, 40 соток с обеда. Попаши! Потом в колхозе тоже заставляли: берите лопаты, говорят, копать землю. А спина-то болит от лопаты. Давайте в плугу запрягаться, говорят. Запрягемся в плугу, все-таки полегче, а то спина болит, пашем. Едет председатель. Что вы делаете, кричит. Сейчас из города приедут, меня посадят, все бросайте! Сколько вскопаете лопатой, столько вскопаете. Вроде как люди не должны становиться скотиной.
— А дети с кем?
— Дети — в яслях. Работала я в яслях, заведующей. Одна девочка была какая-то неразвитая. Вот ее все и шпыняли. А мне ее так жалко. Я ее покормлю. Девочку так обижать!.. Хороших, здоровых все любят, а плохих, больных никто не любит. А надо всех любить.
1947–1957. Сталин, развенчание культа личности
— Война закончилась…
— А как война замирилась, муж мой пришел с войны — еле больной. Больной — не больной, мы еще троих детей прижили. Мы же ничего не знали, что можно не родить. А сейчас: хотят — родят, хотят — не родят. Она вот у меня шестая родилась, — старушка кивает на Нину, сидящую тут же, на диванчике, — я плакала. Зачем? Мы как раз дом строили с мужем. Он уже заболевал. Зачем она мне нужна? А никуда не денесси.
Виктор и Нина — двое из тех, кого прижили после войны — приносят фотопортрет отца. На снимке полнощекий, красивый мужчина в военной форме. Это он в Берлине, завскладом, сообщают с гордостью.
— Он был очень честный, мой муж. Все шлют посылки, а он не шлет. Ему начальник говорит: «Русаков, у тебя есть семья». «Есть, трое детей», — отвечает он. «Что ж ты?» «Я воровать не пойду»… А потом умирает муж. Мне 42 года, а ему — 45. Я за них двоих, — Анна Дементьевна снова кивает на своих детей, — получала три рубля по утере кормильца. Ходила за 12 километров получать эти три рубля.
— О Сталине что думаете?
— Жестокий. Сталин все налоги накладал. Вот есть у тебя сад, яблони. Все считали. Сомородину считали. И за все платили налоги, за каждый куст. Но Сталин войну завоевал. С одной стороны, он плохой, а с другой — хороший.
— Раньше ругали его, теперь опять хвалят?
— Не надо ругать никого. Надо всех ставить так, чтобы каждый был достоин своего времени. Сталин, Сталин… У него не было своей дачи, у него была государская. А сейчас, гляди, за границей все себе дач набрали, нахватали.
1957–1967. Освоение космоса, стройки коммунизма
— Как вы оказались в Жабкино?
— Дочь у меня старшая вышла замуж тут, в Москве. Она работала главным зоотехником. Вот она приедет и говорит: «Мам, ну давай я тебя возьму к себе в совхоз». Мне так не хотелось. Я плакала: не хочу туда ехать! Ну, что делать, согласилась. Домик бросила, поехала. Я семь лет плакала тут, думала, как мне отседа уехать, так я не хочу тут жить.
— Почему?
— Люди другие. Работа тяжелая. Грузчиком работала в совхозе «21-го съезда». На птичник пойдут — мешки по 70 килограмм таскают. Дом дали — не дом, а развалюху. Бурьяном зарос. Я глянула: ни печки, ни стола, ни дивана. Ой-ой, у меня вода замерзает! Вот так меня сюда привезли. Сманили. Что делать? Вот, сын у меня, какой помер, говорит: «Мам, не расстраивайся, не расстраивайся». Я взяла с собой керогаз. Сготовила. На пол сели — поели. Потом печку сложили. Так моя жизнь и пошла тут.
— Расскажите, как вы о полете Гагарина в космос узнали?
— Что я про него могу, я же неграмотный человек. Он летал — да. На кой? На кой они это все делали? Что Гагарин? Он же не сам. Тоже ведь приказали, Гагарину-то. Он говорит: я ведь не сам, это все заставили.
— До каких лет вы работали?
— Колхозного стажа у меня 37 лет. Пошла я брать паспорт, чтобы оформить пенсию. И я даже не знала, когда родилась. Оказалось, что я с 1917 года. Во как.
1967–1977. Холодная война, разрядка международной напряженности
— Хлеб стали возить. У меня восемь человек, соседка одна. Ей буханку, и нам всем — буханку. Не было правды, и сейчас нет. Вот так всю жизнь без правды. Выжили как-то. И дети все здоровые, крепкие. Загадка. Природа, наверное. У нас лес рядом. Как май месяц, — зацветает. Черемуха цветет, все… Тишина, птицы щебечут. Цвяты на лугах, каких только нет. Один у нас был мужик такой. Говорит: это рай земной, рай. Знаешь, была бедность, зато спокойно. Вот мой домик. Вот соседка стоит, вот другая соседка. Кричит: «Нюрк, я бляны пекла». Принесет мне блины. «Нюрк, у тебя есть хлеб?». «Есть, бери». Рядом все. Щас — во, ни к кому не подойдешь! Заборы. Постучишь — никто тебе не ответит. Когда там загорелся дом, пожар — ой, пожар, все с ведрами бяжать. А сюда приехала, загорелся пожар — все стоят, смотрят, как горит. Совсем народ другой московский.
— Помните «холодную войну» с Америкой, ядерную угрозу?
— Ну погоди… Зачем наши с Америкой связались? Она нам нужна? Америка все время живет одна. У нее никогда войны не было — в Америке. А у нас войны. Одна за одной, одна за одной. У нас люди гибнут, а у Америки — нет. Вот, уехал кто в Америку, хвалится. А вот уехал, назад едет — а не надо его обратно пускать, назад брать! Уехал — живи. Вот так вопрос надо ставить. А то выделываются.
1977–1987. Период застоя, Афганистан
— Война в Афганистане. Знаете о такой?
— А как же! У племянницы сын. Он из-за этой войны больной весь стал. Он остался жив, красивый малый. И рассказал. Мы, говорит, бяжали. Семь человек. За нами душманы, стреляли. Один он спасся. Остальным голову резали. Умер он, только пятьдесят лет пережил. Сердечник. Не женился.
— Работать вы продолжали?
— В совхозе, да. Кем? Да в бригаде. Мешки таскала, грузила. Свекла, пшеница. Все подряд. Когда делов очень много было, когда корова была, сын пойдет за меня. Они там стога ставят. Там один мужик был: «Ой, тетя Нюр, присылай своего сына, он стога так ловко кладет». Там я 49 лет прожила, и здесь 51.
— Замуж вас потом не звали?
— Какая тебе замуж! Всех мужиков побили. Один приходил, спрашивал: «Возьмешь меня?» Я говорю: «Нет, не могу. У меня дети, мне стыдно перед детьми». Когда много детей, какие тут мужики.
— Как думаете, счастливая у вас жизнь была?
— Какая счастливая жизнь? Я прожила всю жизнь без мужа. Сам подумай. День и ночь пахала. Вставали мы в 4 утра. А в 6 утра у меня все натоплено, все наварено. Дрова на себе таскали, возили. Потом в колхоз на работу пойдешь. Мне говорят, Нюрк, ты такая красивая. Я говорю: нет, красивая, да несчастливая. У меня мужа нет, и мне никто не нужен. Вот так вот. Не я одна, все мы жили так — одинокие женщины, все. Такая война была, что делать.
Любопытно: Анна Дементьевна говорит, жила без мужа. Между тем замужем она была 21 год. Хотя если подумать, своя правда в ее словах есть — это же всего-навсего пятая часть ее жизни.
1987–1997. Распад СССР, Ельцин, «лихие 90-е»
— Помните, как Советский Союз развалился?
— И вот кто в этом деле виноват? Ельцин виноват. А в Ленинграде был этот — Собчак. Он такой серьезный. Но настойчивый. Он хороший мужик, хороший хозяин. А я лежала в больнице. Читаю, что он Ельцину говорит. Вот зачем нам, говорит, Чечня эта нужна была, зачем? Была загороженная сеткой. Мы к ним не касались, они к нам не касались. Это что ж: рюмки две выпил, все отдал, все разгородили. И началась война. А сколько погибло людей, а?
— Жалеете, что Союза не стало?
— А как не жалеть-то, милая моя! Жили. Колхозы. Я, бывало, пойду и на 10 рублей принесу сумку: и колбасы, и всего. А сейчас чего? Вини кого хошь. Ни колбасы хорошей нет, ничего хорошего нет.
— В 1990-е тяжело жилось?
— Не одной мне, всем подряд тяжело. Как с детства началось — так одни переживания, переживания, переживания. И сейчас.
— И как удалось справиться?
— Будешь бороться за жизнь — всегда будешь жить. Трудно тебе, не трудно, но ты борись за жизнь! Сколько еще проживу, Бог знает. Голова стала кружиться. К ночи бессонница нападет, сну нет никакого.
— А Москва вам, кажется, не нравится?
— А чего нравиться? Конечно, в деревне труднее было, может, но лучше, свободнее. Душевно мы жили, радостно. Там проще, очень просто. А в Москве — ты вот идешь, ты знаешь, кто, что за народ навстречу идет? С кем здравствоваться? Таджики здороваются только. А то внуки. Все приезжали молоко пить, всем носила… Понесла внукам. Сноха: а сколько я за молоко должна? Я, говорю, с внуков за молоко не беру!
1997–2007. Путин
— Путин как вам?
— Все его хвалят. Как Сталина. А потом тоже ругать будут. И сейчас ругают. А так разобраться — работать на этой работе тяжело. Но разве правильно он сделал? Почему он там, в Думе, всех обложил деньгами? Почему они себе такую зарплату получают? Он пойдет на пенсию, какие он деньги будет получать? Почему? А людей обижают, люди копейки получают.
— Будете отмечать 7 ноября?
— Как не будем? Будем. Мы в колхозе на этих праздниках по неделе гуляли. Нам колхоз давал продукты. И мы вот утром встаем, идем, едим — там бляны пекут. В обед опять. Целую неделю едим.
— А вы где бывали, в каких городах?
— По совхозам ездила, в Челябинскую область к сестре в ссылку, в Москву — девочкой.
— На море?
— Зачем? Кто меня возьмет?
2007–2017. Экономический кризис, Украина
— Об Украине, Крыме что скажете?
— Что скажу? Наши-то очень простые. Все пхают и пхают туда конвои эти, колонны. А можно так и не пхать. Они там захватывают какой-то клок. А эти помощь везут. Такие деньги. Сколько можно возить? Ну? А Крым — не мое дело. В это дело я не лезу, я неграмотная женщина.
— Сколько у вас внуков, правнуков? Вы их считаете?
— А как же! 10 внуков. Наверное, и правнуков тоже 10. Прапра — один.
Подумалось, что дети раньше были не столько детьми, сколько сельхозработниками: чем их больше, тем сильнее подспорье хозяйству. Со временем экономическая зависимость от труда на земле снижалась, число детей в семьях шло на убыль. Это легко проследить по роду Русаковых — каждое следующее поколение снижало планку наполовину. У родителей Анны Дементьевны было десятеро детей, у нее самой — шестеро, у ее детей — двое-трое, у внуков — один ребенок на всех. Буквально за три поколения, за сто лет род прошел путь от домашнего детского сада до «чайлд-фри» семьи.
— Какие у вас были самые хорошие, яркие моменты в жизни?
— Какие еще яркие моменты? Хорошие? Ну какие… У нас была любовь. Мужа я любила. А чего мы пожили-то? Детей только наваляли. Ложишься спать — с собой ребенка кладешь.
— Легкой жизни и не бывает, наверное?
— Не бывает. Ничего — прожила. Нормально. Я довольная осталась своей жизнью. Никого не обидела. Я довольна Богу. Не помогал Он мне, и не надо. А то помогал бы — попрекали бы меня. Значит, это должно быть. Идет все по порядку.
***
Дом столетний
— А мы гадали, кто он, этот парень. Вуайерист, что ли. Или частный детектив. Залез на дерево прямо напротив наших окон, что-то там высматривает… Нам-то невдомек, что. Мы же привыкли, глаз замылился. А он, оказывается, особые элементы декора заприметил. Разъяснилось потом, что это фотограф и ему наш фасад понравился, — весело рассказывает одна из жильцов петербургского дома № 58, расположенного на 11-й линии Васильевского острова.
Дом как дом, каких здесь множество. Тот, о котором местные говорят: исторический памятник. Коммунальщики и риэлторы: старый фонд. А туристы ничего не говорят — просто стоят, глядя вверх, в направлении мансарды, и разинув рты. Красота — чего тут еще скажешь!
Дому этому сто лет. Вернее, так. Часть жильцов считает, что сто. Потому что в кадастровых документах записано. А другая часть, меньшая, — что на десяток больше. Потому что книга Никитенко и Соболя «Дома и люди Васильевского острова» об этом свидетельствует: шестиэтажный, в стиле модерн, построен для купца Чубакова по проекту архитектора Еремеева.
А для домов и людей Васильевского острова это вроде священного писания. Вы сходите в библиотеку на Андреевскую, советуют, сами прочитаете.
Разве кто ходит еще в библиотеки? А вот поди ж ты.
Да и бог с ними, с разночтениями. Вон, значительную часть зданий 12-й линии тоже в вековые определили — и ничего. Будем считать, что имеем дело с ровесником революции; раз большинство такого мнения придерживается, станем и мы большевиками.
***
Конец октября на Васильевском, на Ваське. Почувствуй себя матросом Железняком, что называется. Продувает по всем линиям, параллельно и перпендикулярно, во все пределы. Вот где пригодился бы плотный морской бушлатик.
Мы словно Свидетели Иеговы. Или, вернее сказать, свидетели подозрительности. Мало кто двери нам открывает, а если открывает, то со скрипом. Зато каждая дверь на другую не похожа, любая — произведение искусства, медными ручками украшена. Нам так и советуют быстро пробегающие по лестницам жильцы: «Чего вы в квартирах-то не видели, тем более — в коммуналках? Вон — двери лучше фотографируйте».
И оказывается вскорости, что если вежлив, все остальное здесь прощается, вежливость в Петербурге открывает все двери.
Двое выходят на лестницу покурить. Рассуждают, болтая: «Мы тоже вот думали: построил человек доходный дом, а попользоваться им не успел — бац, и революция».
— Вы не собирались как-нибудь сообща, силами жильцов отмечать юбилей своего жилища, так сказать? — спрашиваем их.
Они глядят недоуменно. Отметить — это понять можно. А сообща — это как?
Отсутствие тесных человеческих связей — вот что бросается здесь в глаза сразу же. Жильцы друг друга едва знают. Тем более кто чем занимается. Хотя не бог весть сколько квартир в доме. Спрашиваешь, а есть ли те, кто долго здесь живет, есть ли чем-либо выдающиеся личности, яркие, — пожимают плечами, отвечают:
— Да я здесь недавно, только с 85-го года.
***
Определять, где коммуналка, а где нет, удобнее всего со двора. Смотрите, учат нас, если пластиковые окна — значит, выкуплено; если обычные — то колхоз, стопроцентно.
Мать троих детей, преподаватель вуза, пускает нас в свою коммуналку, но не дальше общего коридора. Жалуется, что коренные жильцы умирают, а новые снимают квартиры-комнаты, и с ними контакт не устанавливается. Даже не столько жалуется, сколько отмечает как факт жизни.
— Коммуналки как деревни. Но эти деревни между собой не общаются, на смотрины не ходят, — говорит она. — И если вы думаете, что раньше была такая уж общность, то ошибаетесь. Вот у меня соседка есть. Больше двадцати лет бок о бок живем. Мужья, дети — тоже. А все равно — держим дистанцию, в душу друг к другу не лезем. Не принято это. Если что и объединяет нас, так это общие алкогольные практики. Следующие будут на Новый Год. Готовимся.
Не родственники они, но и не чужие — что-то среднее. Есть ли такое еще где-нибудь в мире, спрашивают жильцы коммуналки. Чтобы один горшок на десять человек — и в интерьерах модерна столетней давности?
— Нашему правительству должно быть стыдно, — возмущаются хоть и по адресу, но обезличенно, — расселять нас надо.
— А если на окраине города, в Купчине будут предлагать жилье — поедете?
— Нет. Лучше так. И, кстати, окажетесь в том районе — не склоняйте его название. Местным это не нравится.
Да что же это за поветрие такое несклоняемое? В этом смысле купчинским бологовские пришлись бы по душе.
***
Может, знаете что-нибудь интересное о своем доме, спрашиваем мы преподавательницу вуза. Да не было тут ничего особенного, отвечает она. Ну вот Шаляпин как-то сюда приходил, — кивает на дверь в одну из комнат, — пел там, конечно, просили.
Ну, да, думаем, чего ж тут особенного — просто Шаляпин, просто пел.
— А еще?
— Еще Глазунов, мансарда на последнем этаже.
— Да что вы?! Композитор?
— Вообще-то художник. Илья Глазунов. Жил здесь, пока не испортился и в Москву не уехал… Сейчас там внук его обитает или кто, — добавляет она, — водит по квартире экскурсии: православных и иностранцев.
«Внук или кто», кстати говоря, нас на экскурсию не пустил. Конечно, мы же не иностранцы и не православные. Правда, открыл дверь, не побоявшись, ухоженными усами шевельнул — похоже, он тоже из мира изобразительного искусства, — сказал металлически-любезно: «Извините, я работаю».
О Глазунове здесь рассказывают так: «Видели мы его редко. В основном когда лифт ломался. Идет, белый воротник рубашки поднят, барин. Но мужик нормальный».
Нормальность эта объясняется вот чем. Дом строили сразу с лифтом — диковинное дело для того времени, чуть ли не первое на острове. Потом лифт пришел в негодность, его замуровали, следы можно увидеть на стенах. Поставили новый. Но тот все ломался и ломался. Тогда жильцы обратились к Глазунову. Сосед, сказали, они, ты же известный человек, скажи там начальникам, чтобы лифт нам нормальный сделали. Художник сначала отнекивался, говорил, что ему неловко. Но потом позвонил куда надо, и проблема решилась.
— А еще раз было, — говорит один из жильцов, — возвращаюсь я домой, похмельный, молодой еще был, света в парадном нет, гляжу — стоит Глазунов этот, мнется. Потом говорит мне: «Не могу домой попасть, там у меня перед дверью мертвец». Ну что делать? Зашел я к себе, взял свечку, зажег, пошли мы наверх. Я впереди, а он сзади меня подталкивает. Поднимаемся — и вправду, ноги лежат. Я за них подергал… и никакой это не мертвец оказался, а бомж обыкновенный. Тут Глазунов рассвирепел, закричал на него: «Вон отсюда, вон!» Художник, что ж.
***
На лестничной площадке встречаем жильца с серьезным ризеншнауцером по кличке Гром. Пока Гром не грянул, выспрашиваем его хозяина насчет гражданских антагонизмов в доме, между людьми, возможных последствий революций. Тот удивленно говорит в ответ:
— Ну, какие антагонизмы здесь могут быть?! Одни несчастные живут в коммуналках, другие несчастные снимают комнаты в коммуналках. О чем вы вообще?!
— А если не в коммуналках?
— Так все — и бедные, и побогаче в одном разваливающемся доме живут. Как на «Титанике» — палубы разные, судьба общая.
Единственный, кто отнесся к нам без подозрения, — Александр Всеволодович Носов. Наверное, дело в специальной подготовке, позволяющей распознавать опасность. Ведь он арабист, переводчик, в советское время работал на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии.
Ему 71 год, он родился в этом доме и всю жизнь провел в нем. Помнит прачечную во дворе, как белье сушилось, дровяной склад… Помнит, как с пацанами прыгал в снег с крыш сараев. Как дом на дом дрались — и это тоже была своего рода форма общения, а сейчас и такого нет.
Гордится бабушкой и матерью, которые пережили блокаду и не пустили на дрова роскошный антикварный шкаф. В Петербурге это считается высшим достижением. Эстетическое преодолело животное. Человеки мы.
В КПСС Александр Всеволодович никогда не состоял, хотя работал за границей.
— Разве такое допускалось?
— Переводчиков не хватало. Когда им что-то было нужно, они закрывали глаза. Ты мог быть хоть преступником.
Он продолжает работать, чтобы не бедствовать. Его знание арабского и прочие навыки никому не нужны, поэтому он трудится курьером в интернет-магазине — развозит мобильники по области, благо у него льготный проезд на общественном транспорте.
В 1990-е работал на стройке. Но там слишком умные оказались не нужны. К тому же он непьющий, а это, как оказалось, — недостаток.
У семьи Носовых есть фамильный склеп на Смоленском кладбище. Отец Александра Всеволодовича, секретарь парткома, в конце жизни стал ходить в церковь; бабушка, член райкома, завещала себя отпевать.
В свое время Носова приглашали в КГБ. Он не пошел. Теперь жалеет. Они своих не бросают, говорит. Не пришлось бы сейчас курьером работать. Карьеру бы сделал. Вместо курьера — карьера.
Он был наблюдателем от партии «Яблоко» на недавних муниципальных выборах. Говорит, что «Единая Россия» выиграла по факту. Между фашистами и коммунистами ставит знак равенства. Читает Новодворскую и восхищается ею. Слушает «Эхо Москвы». Самым важным в жизни считает впечатления. Не с деньгами останешься, поясняет, а с впечатлениями. Как-то раз он провалился под лед, когда на лыжах шел в Кронштадт. Это впечатление осталось с ним на всю жизнь.
— Все хорошо на нашем острове, — говорит, — вот только зелени мало, страдаю я от этого.
***
Римма Васильевна, 87 лет. По стенам — портреты Пушкина, календарь с Иисусом Христом, на подушечке несколько медалей, одна из них — к 130-летию со дня рождения Сталина, другая — к столетию революции, на днях вручили.
Вместе с матерью она, девочка еще, пережила всю блокаду. Мать работала фрезеровщицей, считалась квалифицированным рабочим, поэтому получала хороший паек. Римма Васильевна вспоминает, что им даже удалось насушить наволочку сухарей из сэкономленного. А еще они ездили по осени в Колпино (немцев там не было), выкапывать из земли капустные кочерыжки, оставшиеся после сбора кочанов. Там, кстати, до сих пор капусту сажают. Эти кочерыжки были огромным подспорьем и не дали умереть с голоду.
После войны Римма Васильевна работала нормировщицей в типографии, на Печатном дворе им. Горького. Обсчитывала соцсоревнования. Ее сын тоже печатник, проработал полвека. Дочь вышла замуж за армянина. Внука назвали Арсеном. Как-то в храме записку с его именем о здравии не хотели брать. Пошли разбираться — разобрались: священник сказал, что можно — свои.
— А репрессии в вашем доме были? — спрашиваем.
— Как же. Были.
— Кого забирали?
— Сигнальщика.
— Это фамилия?
— Ну какая фамилия. Он светил фашистам, куда бомбы сбрасывать.
— Римма Васильевна, как же вам все-таки удалось в блокаду выжить?
— Кто хотел выжить — выжил. Мы просто жили и жили.
***
Город столетний
Почему именно Бологое? Потому что кого ни спросишь, все были в Бологом, но все — проездом. Часто ночью. Недаром зовут его грустно-шутливо — городом-призраком. Откуда-то из темноты выглядывающим всякий раз. Вот бы сойти с поезда, поглядеть, как там люди живут, думали и мы тоже сколько раз… И дальше ехали.
И еще потому, что минувшим летом городу стукнуло ровно сто лет. Ну то есть как — сто… Вообще-то сельцо возникло на этом месте, согласно разным там берестяным грамотам, больше полутысячи лет назад. А речь идет о присвоении статуса города.
Вообразите. Неспокойное время прямо посередке между февральской буржуазной и Октябрьской социалистической революциями. Которые справа и слева бушуют. На севере и на юге — в столицах старых-новых, в Москве и Петрограде-Петербурге. По три сотни верст в разные стороны — тоже, значит, посередке, только уже в географическом плане. Казалось бы, кому есть дело до всяких статусов? Ан нет! Самолично председатель временного правительства Керенский подписывает бумаги, которые до того долгое время лежали в чиновничьих кабинетах. Говорят, сделал он это в знак благодарности Бологому. Дело в том, что с Бологим напрямую связаны обстоятельства отречения от престола российского императора Николая Второго. Он направлялся по железной дороге из Могилева в Петроград, добрался до Малой Вишеры, но там его поезда развернули. В Бологом царскую охрану заменили на революционную, и уже затем поезда отправились на легендарную псковскую станцию Дно. В сущности, как раз из Бологого и начался трагический путь последнего русского царя в расстрельный подвал Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
***
Бологое город невеликий, расположился вкруг веселого озера. Здесь хорошо опохмеляться на лавочках, как мы поняли по утренней активности на берегу. Старинное, русское насквозь местечко, в названии которого легко угадывается доброе корневище. 20 тысяч с небольшим жителей. Одна, по сути, улица. Прочие — так, отростки. Кирова, переходящая в Дзержинского, и наоборот. А посередине — сквер Ленина, с Лениным же в центре на постаменте, свежевыкрашенным, ухоженным, гвоздика в подножии, как полагается.
Вдоль нее местная администрация придумала к вековому юбилею установить стенды с ретрофотографиями, запечатлевшими жизнь города в первые годы после революций. Производят снимки, прямо сказать, гнетущее впечатление. Людей на них почти нет — только здания. А если и есть люди, то все опасные с виду типы, в кожанках, фуражках, галифе и сапогах. Ну, вот ровно такие, какими изображало советское официальное искусство работников ЧК! Стоят посреди улиц хозяевами, расставив крепкие короткие ноги. Словно вышли перекурить после допросов чуждых социальных элементов.
В 1917 году власть Советов установилась здесь быстро и без сложностей. У железнодорожников дисциплина почти военная. Им сказали — они сделали.
Небольшая ладная часовня — одна из главных достопримечательностей. Возведена в память о трагическом событии 1911-го. В тот год на пожаре в синематографе погибли десятки бологовцев, среди них много детей. «Кошмар» — первая мысль. А вторая такая: «Ничего себе, царская лапотная Россиюшка, село, а ведь кино крутили».
***
Рядом с часовней двое с граблями и топором прибираются — корчуют сорняковые деревца, повылезавшие из земли за лето. Оказывается, из православной общины, Тома и Вовочка. Никто их не заставлял, самодеятельно трудиться пришли, по движению души.
— Дорога у нас одна, кольцевая, считай, и та ведет на кладбище, — говорят они в ответ на вопрос, не пытались ли переименовать ее, — два палача, а меж ними — главный, и никак нам из этого круга не выбраться.
Томе за 60, она живет на два города — Бологое и Таллинн. Здесь дом родителей, там — квартира и вид на жительство. В Бологом она собирает деньги на восстановление Покровского собора, разрушенного большевиками. Но люди дают мало: пусть, говорят они, государство церкви восстанавливает. Другое дело — Таллинн. Там на православные нужды жертвуют активно, в супермаркетах даже специальные ящики для денег установлены.
— Что ж, я не в обиде на людей. Они озлоблены, работы-то нет, — сообщает она.
Выясняется, что в этом году, словно в насмешку над столетним юбилеем города, здесь закрылся арматурный завод. Теперь в Бологом, когда-то индустриальном центре, нет ни одного промышленного предприятия.
— Уволили 600 человек. Если считать с семьями, то тысячи две остались без средств к существованию. Представляете, какая это беда для города? — риторически спрашивает Тома и кивает на Вовочку. Он один из тех, кто оказался на улице.
Хотя, по правде сказать, такой уж депрессии на лицах бологовцев мы не увидели. Зато приметили много частных, довольно дорогих автомобилей.
— Это все на кредиты куплено, — доказывают нам. — Кредиты — враг революции. Неоткуда было бы взять людям денег — на улицы бы вышли.
Или — не вышли бы. Мы же точно знаем, что прибедняться — важнейшее из искусств нашего народа. Зря, что ли, на фасаде школы № 1 выведено трафаретно: «Имей больше, чем показываешь, говори меньше, чем знаешь» (Уильям Шекспир).
«Раньше» и «сейчас» — то и другое не перестают сравнивать. Здесь, в Бологом, все разговоры так или иначе сводятся к сопоставлению сносного, а то и благополучного, прошлого и загибающегося настоящего.
Мало таких, например, кто не вспомнил бы случай с Никитой Хрущевым. Как однажды вышел он из поезда на бологовский перрон продышаться, а тут люди к нему. Советские и партийные работники — о красоте природы, ягодах-грибах и свежем воздухе, а простые жители с жалобой — нет, дескать, у нас ни одного заводика, даже самого завалящего. Так и появились в Бологом два предприятия: арматурный и «Строммашина». Легенда? Нет. Так все и было, краеведы подтверждают.
***
А еще в Бологом, в какое место ни придешь, оно оказывается невероятным образом связано с царской семьей. Отречение отречением. Но вот в Троицкой церкви рядом с иконой святого Пантелеймона-целителя лежат бумажки с надписью «Соборная молитва против фильма Матильда». Тоже и о черных колдунах речь, и о деторастлителях, и просьба к Господу вразумить недалеких… Выяснилось: никто сверху эту прокламацию не спускал — местная инициатива.
А здесь офис ДОСААФ, где на автомобильные права сдают, и располагается — в здании бывшего храма, где молились, чтобы у императора родился, наконец, наследник после всех дочерей. Бологовская молитва сработала: появился на свет царевич Алексей, гордо сообщают местные православные. Ну, так-то не очень и сработала, говорят другие жители, больной же он был.
Если и продолжается у нас в стране гражданская война в различных формах, то в Бологом ярче всего она проявлена в общественном конфликте между вновь обретенной верой и дефицитом раскаяния.
В преддверии 7 ноября повсюду можно было увидеть листовки с приглашением на праздничные мероприятия. Все они согласованы с властями, руководители администрации обещали принять участие. А в райкоме КПРФ один из активных членов признался, что и сам иногда в храм ходит, и посетовал, что вот, мол, и Иван Грозный церковь не жаловал, и Екатерина Вторая гоняла, а виноваты почему-то одни только коммунисты. Он же сообщил, что к празднику уже заготовили 100 искусственных гвоздик, банты, шары, портреты Сталина и Жукова.
Просим райкомовских познакомить с кем-нибудь из молодых коммунистов. Как раз приходит Сергей Гейне. Работает грузчиком в супермаркете. 30 лет. Рассуждает, как на поезде едет — со всеми остановками: «Русь — община — коммуна — коммунизм — Иисус Христос первый из коммунистов». Стоп, конечная. Время прибытия не узнать — часы в бологовском райкоме стоят.
И кстати, чтобы фильм «Матильду» бологовцам посмотреть, так это надо им в Вышний Волочек ехать, потому как своего кинотеатра в городе нет. Плохо это, а может, и слава Богу.
***
Рядом с редакцией газеты «Перекресток всех дорог» встречаем двух замерзших журналисток. Они возвращаются с бологовских улиц, где проводили опрос жителей о том, что им известно о ноябрьских праздниках 4-го и 7-го. Сообщают, что если о революции кто-то еще что-то слышал или помнит, то о народном единстве знать не знают. Один школьник предположил Масленицу.
— А вот заводы позакрывали. Разве это не повод для людей выйти на улицы, устроить революцию какую-нибудь? — интересуемся мы у сотрудников краеведческого музея, коммунистического оплота, по словам Томы и Вовочки. Весь город знает, что недавно здесь устраивали лекцию о пионерии для школьников: показывали им, каким узлом завязывать красный галстук, и рассказывали о тимуровском движении.
— Не выйдет у нас никто. Молодежь занята своими гаджетами. Их родители заняты выживанием. Все мужчины — на вахтовых заработках. В Москве, Петербурге. Даже в Ростов-на-Дону на стройки ездят. Прибавьте сюда историческую память — люди инстинктивно чувствуют, знают, какие трагические последствия влекут за собой революции. Плюс все разуверились в своих возможностях как-то влиять на окружающую жизнь, стали политически апатичны — на выборы ходят только те, кто голосует за партию власти и президента Путина. Остальные игнорируют.
А еще люди откровенно трусят. В райкоме КПРФ рассказывали, как накануне закрытия арматурного завода к ним пришла инициативная группа рабочих этого предприятия и попросила помочь в составлении письма в прокуратуру с требованием сохранить производство.
— Ну, мы составили все честь по чести, — вспоминает глава райкома Алек Аламанов, — и даем им на подпись. А они отказываются! Говорят, их за такое могут уволить. Так завод-то хотят остановить, говорю я им, какая вам разница?! Но они так и не подписали. Вот народ у нас какой.
Или еще такое можно услышать: «Лес у нас вырубили. Так что надо бы куда-нибудь позвонить». Форма протеста безадресная, условная.
Бологое — город сам по себе мирный, к тому же денег здесь мало, делить нечего. Людей всегда выручали дачи-огороды-заготовки. Жили и жили. Но вот сейчас земельный налог подняли существенно. Люди, получив бумажки, ошалели.
— Будут протестовать? — спрашиваем журналисток.
— Не будут, — отвечают они, — поругаются про себя и перестанут, утрутся в который раз.
Далее следует рассказ, иллюстрирующий характер бологовского жителя. Приходит он в газету жаловаться, говорит два часа, всю жизнь свою расскажет. А на следующий день просит ничего не писать.
— Но вы все-таки объясните, почему все за Путина, несмотря на закрытие заводов?
Ответ предсказуем, слышан нами десятки раз в малых российских городах и от того кажется пошлым, искусственным:
— Лишь бы не было войны.
***
Коммунисты и церковь. Идеальное прошлое и хреновое настоящее. Люди и власть. Отцы и дети. Богатые и бедные — выражено в том, что нувориши кое-где перекрывают доступ к береговой линии озер. На них ругаются. Но не очень злобно, вроде как по инерции, словно богатеи — явление природы, а на дождь с мокрым снегом ругаться глупо, без толку.
Москву и Петербург здесь не любят. Москва, говорят, помойка Европы, а Петербург никогда Россией и не был. Не любят, потому что скупили все предприятия, обанкротили и закрыли. Потому что мегаполисы, как черные дыры, утягивают людей. Отсюда уезжать удобно, выгодно — хоть направо, хоть налево, говорят одни. Москва с Питером нас на части разрывают, говорят другие и, раскинув руки, встают в позу несчастного, пытаемого дыбой. Неожиданно получается очень похоже на бологовский герб с двумя противоположно направленными стрелами, «аллегорически указывающими на влияние, которое оказывают на город две российские столицы».
Потому что пустили между собой высокоскоростные «Сапсаны» и из-за этого отменили кучу электричек, на которых люди добирались к своим дачным огородам. Представить только: ты хорошо по местным меркам зарабатываешь — 12 тысяч рублей, — а мимо по несколько раз в день проносятся поезда, в вагонах которых одно место стоит треть твоей зарплаты. И ты из-за этой скорости даже не можешь заглянуть в празднично освещенные окна, чтобы увидеть людей другого мира, движущихся в недоступном тебе ритме, находящихся с тобой в жизненной противофазе — даму в шляпке с вуалью и ее спутника во фраке… Тургеневщина вышла, конечно. Но принцип тот же.
***
А в целом бологовский ритм жизни вот какой: здесь никогда никуда невозможно опоздать.
Вот, казалось бы, местоположение, локация Бологого — дает сплошные преимущества. Но не перекресток это, выходит, а перепутье. Коммунист Алек Аламанов рассказывает, как его знакомый переехал из Сибири в Вышний Волочек. Думал, если рядом со столицами — хорошо живут люди! Купил дом, пожил год, продал дом. Вернулся обратно.
Бологое. Место, где поребрик плавно переходит в бордюр и наоборот. Где «Зенит» и ЦСКА вперемешку представлены надписями на заборах. Что же касается ларьков-киосков «Товары из Финляндии», то чем севернее, тем их становится больше, а южнее — нет вообще.
Где мужчины находят любимых жен, женщин. И художник Рерих, и руководитель ансамбля Александров, и декабрист Пущин, и даже выдуманный толстовский Вронский, о чем свидетельствует магнитик с изображением главных героев «Анны Карениной», который почему-то к металлу лепиться никак не желает.
Где, наконец, братья Стругацкие встречались в ресторане, чтобы писать свои книги; один приезжал из Москвы, другой — из Ленинграда… Это анекдот. Но уж очень смешной и любимый бологовцами.
А еще слово Бологое местные не склоняют. И других поправляют, порой, жестко, даже в телефонном разговоре, хотя грамматически это неверно. Но какие могут быть правила, если речь идет о гордости малой родины! Это как опознавательный знак «свой — чужой», как символ сопротивления обстоятельствам — не сдались немцам в войну, и сейчас сдюжим.
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.