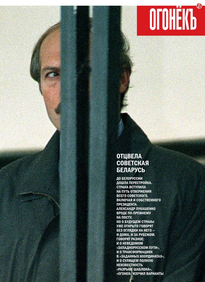Появилось движение, бросившее вызов биохакингу — модному направлению, которое призывает остановить старость любой ценой. Новая тенденция прямо противоположна: она отстаивает право на старость. Почему это важно человеку и природе, «Огоньку» объясняет член комиссии по биоэтике МГУ, философ Елена Брызгалина.
— С тем, что она крайне актуальна сегодня. По мере развития биомедицины появляется все больше данных о том, что такое старение, и все активнее обсуждаются способы, как старость «хакнуть», то бишь взломать, с помощью современных знаний и технологий. Но ведь помимо биологического измерения у старения есть и иные смыслы — культурные, социальные, личные, и они связаны с пониманием природы человека. Мне как философу представляется неоднозначным призыв «активно лечить старение», в том числе через биохакинг (попытка отсрочить старость с помощью медикаментов и технологий.— «О»). Само собой, к отказу от достижений науки я не призываю, но мы должны понимать, куда это нас ведет.
Обозначить грань между разумными усилиями по продлению жизни при сохранении ее качества и «взламыванием старости» трудно, особенно на фоне массового отказа принимать реалии возрастных изменений.
Современная культура сеет страх старости, учит бояться смерти, а бизнес эксплуатирует желание избежать боли и сохранить красоту любой ценой.Мне кажется, эта позиция не позволяет понять истинный смысл старения, ведет к депрессии, обиде на «несправедливость» жизни, а заодно и к негативной реакции на молодежь и все новое. Неспроста в противовес такой тенденции сегодня многие, в том числе и селебрити, ратуют за естественное старение, заявляют о публичном отказе от пластических операций, омоложения рискованными процедурами, даже от окрашивания волос. По сути, они против того, чтобы массовая культура концентрировала наше внимание лишь на одном измерении феномена — телесном старении.
— Как бы то ни было, но движение биохакинга в мире крайне активно. С чем это связано? Человек ведь всегда стремился жить если не вечно, то как можно дольше. И в чем тогда нынешние биохакеры первопроходцы?
— Вы правы, люди, не согласные с естественным течением процессов, были всегда. И во многом они определяли прогресс науки. Но биохакинг имеет отличия. Он начинался как практика — конкретные люди видели в своем теле объект для эксперимента и пытались выйти за пределы того, что предопределено природой. Понятно, что эти границы пытались раздвинуть веками, но использовали способы, связанные главным образом с личным усилием, с тренировками — когнитивными или физическими. Тех возможностей, которыми вооружают современные наука и техника в этой области, не было никогда.
Что такое «биохакинг», сегодня строго не определено: подразумевается весьма обширный спектр телесных вмешательств. Последователи трансгуманизма, к примеру, видят в современном человеке лишь переходный этап на пути к постчеловеку.
Вот они и приветствуют любые практики, ускоряющие такой переход, а это не только биохакинг, но и все технологии, направленные на достижение бессмертия, — от криоконсервации до соединения тела с кибернетическими устройствами, вплоть до переноса сознания человека на небиологические носители. В этом и разница с прошлым — сегодня пытаются не просто изменить границы, а взломать их, что называется, хакнуть. А энтузиасты испытывают на себе те возможности, которые предоставляет наука.
— Но цель та же — отсрочить старость. А что наука понимает под этим словом?
— Если смотреть исторически, то возраст человека — понятие, больше связанное с социальными стандартами. Скажем, если в Средневековье ребенок доживал до пяти лет, то дальше он жил фактически жизнью взрослого человека. Шел в подмастерья, если родители были ремесленниками. Изучал военное искусство, если был сыном рыцаря. В средневековых летописях с восхищением описывают те семьи, которые жили так долго, что увидели своих внуков. Средняя продолжительность жизни, по мнению историков, была лет 35.
Что касается философии, то она рассматривает несколько стратегий старости. Первая исходит из представления о линейности бытия: к определенному возрасту привязаны определенные социальные роли, смена этих ролей так же естественна, как и старение, поэтому эти процессы следует принимать как неизбежность.
Вторая стратегия — в процессе жизни человек накапливает некий объем знаний, поэтому с возрастом обретает множество плюсов. Он продвигается в постижении смысла жизни, постижении самого себя и происходящего в мире, в передаче опыта. Это тоже время труда, но особого — в духовной сфере. Именно в этом возрасте есть шанс ощутить себя свободным, не вовлеченным в гонку…
— Ну, эта стратегия, согласитесь, явно не для России. У нас старость приравняют, скорее, к болезни, чем к свободе.
— Соглашусь. Конечно, есть проблемы с материальным благополучием в старости, с качественной массовой медицинской помощью, с отношениями между поколениями. В России очень высокое неприятие тех процессов, которые связаны с возрастом. Даже если внешне человек их вроде бы принимает, то внутренне к тем изменениям, которые с ним происходят с годами, он не готов. Почему? Да потому, что перемены трактуются в основном как телесные, без акцента на внутреннюю работу. У нас вообще возраст во многом является критерием оценки человека: в целом я бы даже сказала, что в обществе процветает эйджизм, то есть дискриминация по возрасту. Причем негативно относятся не только к пожилым, но и к молодым. У нас ведь как говорят обычно? Либо: молод еще, чтобы судить! Или: ты уже старый, тебе не понять…
— А в какой момент, на ваш взгляд, стало распространяться представление, что старым быть не только плохо, но еще и стыдно?
— Думаю, когда стала меняться структура смертности. Социологи, напомню, разделяют ее на два вида — пререпродуктивная (это когда человек умирает до достижения детородного возраста) и пострепродуктивная. По мере открытия природы детских инфекций и внедрения массовой вакцинации преобладать стала пострепродуктивная смертность. Потери, связанные с ней, восполняются очень быстро, несмотря на все войны и революции. И на фоне прогресса медицины становится значимым уже не только сам факт сохранения жизни. На первый план выходит ее качество. Эта тенденция еще больше усилилась во второй половине ХХ века, когда экология развилась в настоящую науку, а медицина отделила репродуктивное поведение от сексуального и создала доступные способы контроля рождаемости.
Иными словами, в наши дни качество жизни стало первичным. И речь не только о качестве среды обитания, воды, пищи. Отстаивается право выбора в случае, если качество жизни не устраивает, вплоть до выбора в пользу смерти, например при неизлечимой болезни. В этом огромную роль сыграла, разумеется, и коммерциализация всего, что связано с человеческой телесностью, — отсюда массовый культ молодости и красоты.
— Так может, коммерциализация и дала толчок движению биохакинга?
— Мне кажется, не совсем правильно объяснять это материалистически: экономика лишь реагирует на процессы, которые актуальны в данный момент. По своей природе мы не менялись 30–40 тысяч лет, но современная общественная культура и техника дают нам новые возможности для удовлетворения своих потребностей. За сотни тысяч лет потребности не изменились, изменились способы их удовлетворения и то, что мы ставим на первое место.
— Поменялись приоритеты?
— Да, и еще поменялись условия. Поменялось отношение к тому, что значит быть человеком и жить по-человечески. На самом деле это фундаментальный вопрос, ответ на него философы ищут тысячелетия. А сейчас то время, когда каждому нужно найти этот ответ, причем свой. И ничего тут не сделаешь: атака со стороны новых возможностей, которые дает развитие науки и технологий, а также смена общественного стандарта требуют от каждого из нас, даже если он не обладает специальными знаниями, делать личностный выбор.
Нам обещают, что скоро все будут решать машины. Но проблема в том, что, когда человек вмешивается в свою телесность и принимает решение жить или не жить, воспользоваться репродуктивными технологиями или нет, прибегнуть к экспериментальной терапии или отказаться от этого, — во всех этих случаях ему предстоит решать за себя: никто не поможет.
Даже если напротив будут сидеть 10 врачей наивысшей квалификации, а им будет помогать искусственный интеллект, способный за 10 минут все просчитать и проанализировать, все равно перед необходимостью сделать выбор и принять решение человек останется один на один.
— И все-таки, разве это не естественное желание — улучшить жизнь, предотвратить болезни?
— Это очень сложный вопрос, потому что необходимо различать поддерживающую терапию, улучшение и тот момент, когда мы пытаемся взломать границы. Например, технологии редактирования генома могут предотвратить развитие заболевания. Но есть опасения специалистов, что трудно выделить те болезни, для которых редактирование — единственный путь и другие репродуктивные технологии уже не сработают. В любом случае это будет эксперимент, в ходе которого редактированию может подвергнуться не та часть генома, возможна ошибка, возможен эффект мозаичности, при котором какие-то клетки будут содержать измененные гены, а какие-то — нет. А отредактированный на стадии эмбриона человек, достигнув совершеннолетия, столкнется с тем, что перед ним извинятся и скажут: мы пытались исправить, но у нас не получилось. Готовы ли мы к такой ответственности?
— А может быть, это лишь вопрос времени? Пройдет сколько-то лет, и все отладится…
— Можно вспомнить, конечно, как полтора века назад, когда появился железнодорожный транспорт, газеты писали, что все его пассажиры непременно погибнут. А ныне мы ездим на поездах не задумываясь. Это одна сторона. Но есть и другая. Сегодня мы сориентированы на доктрину «четырех П» в медицине будущего — это персонализированная, предиктивная (основанная на анализе генома.— «О»), прогностическая и пациентоориентированная медицина. Первые три «П» про нашу биологию, и если сегодня мы рассказываем врачу о симптомах и ждем, что он предложит нам варианты лечения, то в будущем даже не сам человек, а его родители придут с флешкой или с каким-то новым носителем и спросят: а чем мой ребенок может заболеть при таком геноме? При этом не определив, как человек будет жить под дамокловым мечом знания о генетическом носительстве той или иной болезни, например, Альцгеймера, которая привязана к определенному генному комплексу. И как обеспечить это самое «четвертое П»: хочет ли получить такую информацию пациент, который не факт, что способен ее осмыслить? Кто за кого будет решать? Эти вопросы дают абрис какого-то нового мира, который сегодня осмысляется лишь в блокбастерах и фантастических романах.
Думается, что тот путь существенных трансформаций человеческого бытия, который открыла биомедицина, требует совершенно нового осмысления того, что есть человек. К занятию биохакингом, редактированию эмбриона нельзя относиться как к решению текущих вопросов, если мы несем ответственность перед будущим. Да, у нас нет модели того, что есть идеальный человек ни с точки зрения биологии, ни с точки зрения каких-то душевных свойств. Но есть ощущение, что вектор в этом направлении слишком часто задают прагматизм и соображения пользы, нежели методологическое и личностное осмысление связанных с этим рисков и вызовов.
— А такое в принципе может быть?
— Есть простой биологический закон: сила и устойчивость — в разнообразии. Мы все разные, по возможностям, по способностям, по тому, как мы мотивированы. Это не значит, что нужно допускать нарушение социальных норм, но требовать ото всех быть одинаковыми невозможно по биологическим причинам, если только мы не перейдем к клонированию. Клонирование создаст базу для единства на генетическом уровне, но все равно будут мутации.
Добавьте сюда воздействие среды: мы все уникальны, потому что живем в разной среде. Поэтому давайте не будем трогать биологию! Давайте создадим разнообразные и качественные средовые условия, где каждый найдет свое. Но даже если мы опишем биологию каждого человека полностью и используем все средства искусственного интеллекта, чтобы эти модели собрать, это не значит, что мы сможем некий усредненный образец объявить идеалом. Человечество всегда стремилось к идеалу. Но с помощью образования, воспитания, духовного совершенствования, социальной структуры, права, этики. А сегодня мы хотим все совершенствование свести к биологии.
— А может, это просто еще одна грань для совершенствования?
— Мне кажется, это перегиб. Левые политические движения прошлого века воспринимали человека как чистую доску, на которой социум может написать все, что угодно, и сделать всех одинаковыми. Наша система образования тоже исходит из того, что у всех одинаковые возможности. А биология говорит, что мы все — разные. У нас разная биология нормы и разные реакции, обусловленные нашим уникальным генным комплексом.
А если мы все разные, неодинаковые, на чем тогда основывается фундаментальная идея социума о равенстве и доступности? Это такой вызов, который необходимо осмысливать.
— Насколько активно сегодня обсуждается право на старение?
— Сегодня по многим направлениям обсуждается право человека на сохранение индивидуальности. Например, во всем мире растет движение людей с теми или иными когнитивными проблемами. Например, расстройство аутистического спектра во многих случаях успешно корректируется, но тем не менее это нарушение с человеком остается на всю жизнь. И в таком случае попытка общества подравнять таких людей под некий стандарт нормальности, не отрывает ли она их личность от ментальной основы жизни? У них есть право на когнитивное разнообразие? И движение за право человека быть собой — это установка, которая может проявляться по поводу любых особенностей: ментальных, физических, возрастных.
— Но, если каждый сам делает свой выбор, значит, каждый имеет право решать, хочет он стареть или нет.
— Да. Но при этом в нашем выборе мы учитываем позицию другого. Даже при трансплантации, когда человек делает завещание о распоряжении своими органами, — это забота и о другом человеке. Делается автономный выбор, но — с оглядкой на других. Можно руководствоваться альтруизмом: я не хочу видеть, как страдают мои близкие. Или я хочу завещать мое тело науке, чтобы исследования, проведенные после смерти, принесли благо человечеству. Или отдам свой биоматериал в биобанк, чтобы помочь бездетной паре. Это выбор человека, сделанный автономно, исходя из собственных убеждений, но при этом принимая во внимание комплекс факторов, обусловленных жизнью в обществе.
— Те, кто планирует прожить 100–120 лет, они не считаются с социумом?
— В ходе такого рода дискуссий часто звучит аргумент: почему вы ставите под сомнение право человека жить 150 лет? На это отвечаю другим вопросом: а сколько выдержит наша Земля, каковы ресурсы биосферы по количеству людей? Если вы говорите, что увеличение продолжительности жизни будет сопровождаться сокращением численности населения, то по каким критериям вы предлагаете лишать кого-то права иметь собственных детей? Это уже чистая евгеника.
Хотя вопросов на самом деле больше. Почему с моральной точки зрения тот, кто будет жить вечно, выше тех, кто не родится? И разве это не эгоизм — считать, что твое право на жизнь, которое будет неизбежно сопряжено с нерождением другого, это высшее проявление человеческой сущности?
Почему человек не задается вопросом, а что будет с другими людьми?
Ведь тот же самый биохакинг — это дорогое удовольствие. Это не бесплатные тренировки в парке или пробежка по дорожке. Это еще и различное воздействие, например фармакологическое, затраты на мониторирование состояний и процессов организма и так далее. Мы все знаем историю миллиардера Дэвида Рокфеллера, который умер в 101 год и которому семь раз пересаживали сердце и два раза — почки. Я считаю, что попытка возвести подобные практики в норму и рассматривать телесность человека как объект купли-продажи, как товар — это позиция, которая не может быть признана гуманистической. Почему все биохакеры стремятся рассказать о себе, ведут блоги, объединяются в публичном пространстве? Ответ прост: они торгуют своим телом как проявлением некой идеи.В контексте культуры как коммерциализации кто-то продает накачанное тело, кто-то прокачанные мозги, продукты своего труда. Но у телесности человека как товара не может быть ценового эквивалента, это не товар с особым статусом.
— Сегодня здравоохранение во всем мире бьется за увеличение продолжительности жизни. С вашей точки зрения получается, что на каком-то возрастном отрезке надо остановиться? И где эта грань?
— Грань — это достоинство. Когда мы говорим о качестве жизни, мы закладываем некоторые параметры в ее оценку. Отождествлять продолжительность жизни с качеством, на мой взгляд, некорректно. Мне кажется, нужно говорить о достойной жизни. Потому что человеческое достоинство — более фундаментальное понятие. Если есть понимание, что важна не любая продолжительность жизни, а именно продолжительность жизни достойной, тогда все выполнимо. Тогда мы развиваем систему гериатрии и долговременного ухода, создаем условия для досуга, работаем над финансовой независимостью, взращиваем уважение к человеку во всех сферах жизни. Делаем поправку на совместную активность и совместную ответственность общества, человека и государства. У нас же очень силен патернализм, мы хотим, чтобы о нас позаботились. Но сегодня, повторюсь, мир разворачивается к личной ответственности и личному выбору.
— И все же… На склоне лет многие сожалеют, что жизнь проходит, заканчивается, говорят, что хотелось бы пожить еще…
— Есть действенный способ примирить человечество с тем, что мы конечны и что в масштабах Вселенной мы не то что песчинки, а некие почти невидимые, наноразмерные существа. Нужно показать человеку, что смысл жизни в самой жизни, в самом ее факте. Человеческая жизнь представляет собой абсолютную ценность, и отношение к ней не должно быть технологизировано, не должно зависеть только от коммерческих интересов. Поэтому в школе должны быть не только гуманитарные предметы, а гуманитарно понятые естественные науки, которые не просто рассказывают ребенку, что человек — это скопление тех или иных молекул, а раскрывают, какая ценность и какой смысл может быть у человеческой жизни. А пока наше образование безнадежно отстает от развития процессов в обществе, ни о каком серьезном гуманитарном осмыслении новых технологий речь, по большому счету, идти не может…