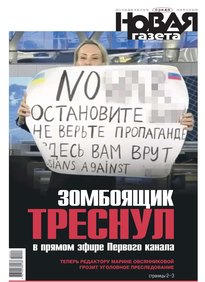Каждый, кто знает цифры, не может заблудиться в Манхэттене. Бруклин — дело другое. Необъятный и тесный, он мне показался монотонным и безрадостным как густонаселенная пустыня. По любой улице можно было идти час, а можно — день, и ничего не менялось: кирпичные домики, напрочь лишенные архитектурных излишеств, лоскутные дворики, чахлые кусты и неплодовые деревья. Правда, где-то был океан.
— Сколько до него? — спросил я прохожего.
— Минут пятнадцать, — обнадежил он меня, но три часа спустя водой по-прежнему не пахло, и, выбившись из сил, я понял, что Бруклин предназначен для машин, а не людей, тем более — пешеходов.
И все же именно Бруклин стал домом, так как здешняя община сдала нам с женой светлый подвал из трех комнат. Последняя — явно лишняя, потому что из мебели у нас был матрац и пришедшие из-за океана подписные издания. Девятитомник Герцена служил стулом, трехтомник Белинского — тумбочкой, оставшийся от книг ящик — столом. Телевизор мы подобрали на обочине. Отделанный красным деревом он показывал только помехи, но украшал квартиру.
Соседи оказались радушными и евреями. Кроме меноры и мезузы они надарили нам кучу бесполезных вещей, из которых меня особенно поразили заношенные до дыр галстуки. За каждым стояла усердная жизнь, проведенная в конторе.
«Лишь бы не это», — с ужасом подумал я, ибо не носил галстук с тех пор, как в пятом классе меня выгнали из пионеров за кривлянье на линейке.
В нашем районе на 14 кварталов приходилось 14 синагог, а также кошерный магазин, маленький банк, иешива, спортивный зал с бассейном-лягушатником и культурный центр, где отмечали все праздники, кроме Рождества. Многие никогда не выходили за пределы этого еврейского рая и нам не советовали, намекая, что кругом — джунгли.
Я, естественно, не поверил и пошел осматривать асфальтовые окрестности. Улицы отличались только номерами, и, как в Гарлеме, я опять не встречал белых. Здесь, однако, мне не были рады. Я понял это, когда с балкона прямо под ноги свалилась корзина подожженного мусора.
Вернувшись к своим, я попытался освоиться, но это плохо получалось. Евреи мечтали поделиться лучшим — религией.
— Теперь, — говорили они, — когда вы сбежали от безбожной власти фараона Брежнева, вы можете без страха молиться, ходить в синагогу и справлять субботу с фаршированной рыбой.
Только она из всей заявленной программы вызывала энтузиазм, но до тех пор, пока не выяснилось, что в Бруклине фаршированная рыба живет в стеклянных банках и не имеет ничего общего с той, которую готовила моя русская мама. Из вежливости мы сходили в гости, заглянули в синагогу, выкупались в бассейне и пришли на лекцию боевика Меира Кахане, уговаривавшего каждого еврея завести автомат и пугать им негров.
Пресытившись ортодоксами, я неожиданно прибился к сектантам, встретив на улице одноклассника, ставшего в Бруклине хасидом. Он предложил мне первую в Америке работу. Охотясь на новеньких, хасиды обращали русских евреев в свою затейливую веру прозелитскими брошюрами. Моя задача заключалась в том, чтобы их переводить с английского на русский, получая по семь долларов за страницу.
Моему восторгу не было конца. Сидя за купленной с рук пишущей машинкой, я узнавал много нового о хасидах, с каждой страницей нравившихся мне все больше. Я просто не мог не согласиться с их цадиками, утверждавшими бесспорное:
«Все шутки, — говорил равви Пинхас, — из рая, и даже насмешки — оттуда же, если они произносятся от чистого сердца».
Кроме того, хасиды лихо пили водку, особенно — в день рождения Любавического ребе, в котором они подозревали мессию.
Я с ним познакомился заочно, когда мне поручили редактировать написанную по-русски автобиографию Шнеерсона. Из нее я узнал, что ребе жил в Ленинграде, учился в Кораблестроительном институте, сидел в ГПУ, бежал в Европу, изучал математику в Сорбонне, спорил с Сартром и исповедовал ту версию религиозного экзистенциализма, которая позволяет говорить с Б-гом даже тогда, когда кажется, что Он не отвечает.
Хуже, что с редактурой ничего не вышло. Когда я решился вычеркнуть лишнее, посчитав плеоназмом сочетание «еврейская синагога», мне велели не умничать, потому что мессии не ошибаются.
— Но тогда, — сдуру возразил я, — как же можно редактировать текст?
— Никак, — согласились со мной, и мне пришлось искать новую работу по ту сторону Бруклинского моста в большом, а не еврейском мире.
2
Нью-Йорк конца 1970-х достиг надира своей истории.
— Хуже, — объяснили старожилы, — не бывает: город обезображен, безработица — 17%, инфляция не меньше, каждый седьмой живет на муниципальное пособие, да еще и грабят на каждом углу.
Сокрушаясь для виду, я на все смотрел скозь розовые очки. Расписанные граффити дома и заборы не могли еще больше изуродовать бескрылую архитектуру. С преступностью я не встречался, так как взять с меня было нечего. По той же причине мне не грозила инфляция, а с безработицей я справился с помощью знакомого эмигранта. Он позвал меня за компанию грузчиком в фирму «Сассун», продававшую самые модные в Америке джинсы. Их рекламный слоган, как тогда говорили на английском, а теперь на русском, знала вся страна: «O-la-la sasson». Будучи, как атаман Платов из «Левши», человеком семейным, я тоже не владею французским и до сих пор не знаю, что это значит. От других джинсов эти отличались наклейкой на заду, а из французского там были только владельцы — два алжирских еврея и их секретарша-любовница.
Готовясь к интервью с работодателем, я надел один из дырявых галстуков, но вряд ли он мне помог. Старший партнер, Клод, которого младший называл Мордехаем, задал один вопрос:
— Писать умеешь?
— Только эссе, — заскромничал я.
— Я спрашиваю, буквы знаешь?
— Простите, — обиделся я, — если мне и не удалось закончить университет с красным дипломом, то лишь потому, что я за вольнодумие получил четверку по атеизму.
— Overqualified, — сказал он.
«Чересчур», — перевел я про себя и бросился убеждать Клода-Мордехая, что уже забыл, чему учился.
Работа оказалась не трудной, но чудовищной. В девять утра я отбивал карточку и открывал картонный ящик с джинсами, которые надо было разложить на полки по оттенкам и размерам. В 9.15 я первый раз смотрел на часы. В 9.20 — во второй, потом — каждую минуту. День тянулся так медленно, что я наконец понял Эйнштейна, твердившего об относительности времени.
Дотянув с неописуемыми мучениями до полудня, я отходил к окну, чтобы съесть принесенный из дома бутерброд в одиночестве, избегая коллег, живо напоминавших рижских пожарных. Дело в том, что русские грузчики обедали с водкой, американские — с марихуаной. Последние, впрочем, светились радушием. Накачанные и мечтательные, они, как я, не выносили монотонного труда и рвались к подвигам. Одни предлагали основать профсоюз грузчиков, другие хотели бороться с наркотиками, третьи — торговать ими.
После обеда я возвращался к джинсам, умоляя минутную стрелку поменяться местами с часовой, но ничего не получалось, и я постоянно бегал в туалет, к окну, питьевому фонтанчику и к большим часам в вестибюле, надеясь, что они идут быстрее моих. Но купленный за два доллара у приветливого негра «Ролекс» исправно показывал точное время, и это казалось мне невыносимым. Страшнее этих дней, скажу я сорок лет спустя, Америка ничего не смогла придумать.
«Свобода, — думал я с ужасом, раскладывая бесконечные джинсы, — обернулась беспросветной скукой рабства».
Ужас заключался в том, что бежать дальше было некуда. Пособие кончилось, жена — беременна, и Булгаков, как с мениппеей, так и без нее, никому не нужен. От отчаяния я вступил в сделку с судьбой, пообещав ей ни на что не роптать, если она снимет с меня кандалы.
Клятва была принята к сведению, о чем я узнал следующим утром, когда попытался выбраться из нашего подвала, чтобы отправиться с утра на работу. Дверь не поддавалась, окно — тоже, телевизор не показывал даже помех, но телефон работал. Я вызвал брата, который пришел с одолженной лопатой и откопал в снегу проход с крыльца. За ночь метель кончилась, Бруклин выглядел одним сугробом, и счастливые дети катались с него на пластмассовых тазиках, заменявших им санки. Не работал общественный транспорт, личный — тем более. Закрылись школы, банки, даже синагоги. Ходить было трудно, но мы протоптали дорожку к винному магазину, не уступившему стихии. Вернувшись в тепло, мы тянули бренди, наслаждаясь свободой, как евреи, сбежавшие из Египта на север. В тот день я проник в глубинный смысл Исхода и узнал, чем он кончается: на следующий день меня выгнали с работы.
3
Между тем из Рима прилетели Вайли. Чувствуя, что повторяюсь, я не могу не сказать, что мы выпили во всех пяти боро Нью-Йорка, не исключая богом забытого Стейтен-Айленда, обошли (без жен) Гарлем и приоткрыли остальную Америку. Самым экзотическим в ней нам показался район массового присутствия соотечественников — Брайтон-Бич.
Эта прибрежная полоса Бруклина, заселенная тогда почти исключительно одесситами, манила одних и озадачивала других. Здесь все казалось знакомым и чужим, как в журнале «Юный техник», который я купил во втором классе, не догадавшись, что он на болгарском. Главная улица сияла вывесками на почти родном языке. Над одним магазином горело неоном «Оптека». Здесь продавали валидол, зеленку, горчичники и градусник с гуманным Цельсием, а не истерическим Фаренгейтом. В кафе «Капучино» подавали не капучино, а пельмени с водкой из конспиративных чайников. В самом углу, у надземки, примостился «Магазин книг». Пляж моря располагался за прогулочной эстакадой. Под нею торговали ковриками с Аленушкой, харьковскими мясорубками и бюстгальтерами на четыре пуговицы.
Все наши экспедиции завершались в «Москве». Перед входом в этот ресторан-гастроном сторожил клиентов фотограф, предлагавший сняться с фанерными персонажами из мультфильма «Ну, погоди!». Внутри под коллективным портретом «Черноморца», за накрытыми немаркой клеенкой столами сидели завсегдатаи, редко снимавшие ушанки. За ними присматривал плечистый хозяин Миша. Говорили, что когда прекратили выпускать евреев, он сумел выкупить у Брежнева дочь-инженера. Уже на следующий день она тоже стояла за прилавком. Нас Миша полюбил за аппетит и лично жарил свои знаменитые котлеты. Выпив, мы легко находили с ним общий язык, но не понимали надпись на счете, где над суммой прогулянного стояла аббревиатура «СРБ». Оказалось — «С Рыжей Бородой». Так Миша обозначал Петю, назначив его за старшого. Вайль действительно был столь представительным и корпулентным, что на его фоне я казался худым. Вдвоем мы напоминали букву «Ю», а поодиночке никуда не ходили, тем более — на Брайтоне. Чувствуя себя там, как Миклухо-Маклай, мы изучали местные нравы методом тотального погружения и не возвращались трезвыми.
Брайтон был первым островом русской (более или менее) свободы. Вырвавшись на нее, он жил, как хотел, и ни в чем себе не отказывал. Стремясь понять, что получается, когда нас выпускают на волю, мы смотрели на Брайтон, морщась, но не отворачиваясь.
Результатом стал первый американский очерк с вызывающим названием «Мы — с Брайтон-Бич». Журнал с ним вышел с портретом авторов на обложке. Наш опус цитировали, читали с эстрады и критиковали за то, что мы пресмыкались перед Брайтоном и издевались над ним, обнародовав безжалостные подробности эмигрантского быта. В сущности, мы всего лишь искали тот наименьший знаменатель, на который делилась Третья волна. Брайтон был ее дном — двойным, золотым, илистым. Отсюда, с крайнего востока Америки, до Старого Света было ближе, а до Нового — дальше всего.
Брайтон-Бич служил тамбуром и казался аттракционом. Словно комната смеха, он преувеличивал наши заблуждения, делая их наглядными, забавными, незабываемыми. Таким его полюбили российские гости. Робея перед Америкой, они приезжают сюда, чтобы лелеять чувство превосходства.
Вскоре мы перебрались в Манхэттен, бросив Бруклин на произвол его затейливой судьбы, а когда я навестил свой первый американский дом много лет спустя, то на месте 14 синагог оказались 14 церквей — как будто в Бруклин вошли крестоносцы.
Нью-Йорк