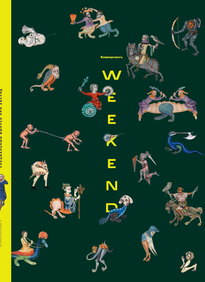Если искать образ «русского пьянства» в живописи, то на ум сразу приходит «Последний кабак у заставы» Василия Перова: картина, в которой не изображено ни пьянства, ни пьяниц, ни застолья, ни запоя — только безнадежность. Анна Толстова — о том, каким безлюдным оказался алкоголический пейзаж у Перова.
При всей общечеловеческой ценности пьянства вера в то, что все народы, коим не запрещает религия, пьют, но каждый пьет по-своему, неистребима. Отчасти в этом повинно искусство, предоставившее заинтересованной публике целую галерею национальных образов пьянства. Взять, к примеру, народы, живущие бок о бок и говорящие практически на одном языке: фламандцев и голландцев. Вряд ли ассортимент напитков и закусок в кабаках Антверпена и Лейдена отличался так уж разительно — то ли дело в социальных различиях между заказчиками, то ли в эстетической пропасти между католичеством и протестантизмом,— только застолья у Якоба Йорданса — это пиры богов, почему-то принявших облик людей, а у Яна Стена — грязные попойки не без скабрёзности, даром что и тот и другой пишут своих вакхантов и вакханок с самих себя, жен, чад и домочадцев. Если же говорить о русской школе, то, пожалуй, главным претендентом на лавры Йорданса и Стена как выразителя национального алкогольного духа будет передвижник Василий Перов (1833/1834–1882), но речь не о тех его картинах, где пьянство изображено непосредственно.
Первый не только внутрицеховой, но и публичный успех Перова связан с картиной «Приезд станового на следствие», показанной на академической выставке 1858 года: в студенте Московского училища живописи, ваяния и зодчества, получившем Большую серебряную медаль за свое гражданственное произведение, увидели наследника Павла Федотова, гениального рассказчика в гоголевском духе. Владимир Стасов впоследствии напишет, что «молодой художник поднимал выпавшую из рук Федотова кисть на том самом месте, где он ее уронил, и продолжал начатое им дело, точно не бывало никогда на свете Брюллова с его фальшивым и фольговым направлением». И верно — в этой в целом неловкой, еще весьма ученической композиции, где так несуразно перемешались плоды арзамасского и московского художественного просвещения, противостояние арестанта и неправедного суда подчеркнуто стилистическим конфликтом, скорее всего, непреднамеренным: крепостной крестьянин писан в венециановской манере, становой-мздоимец, писарь-выпивоха и староста-самоуправец — в федотовской. Перов не замедлил подтвердить репутацию преемника Федотова в ряде живописных и графических сатир начала 1860-х, таких как «Сын дьячка, получивший первый чин», «В рекрутском присутствии», «Дилетант». На Перова рано обратил внимание Павел Третьяков, купивший у него на протяжении двух десятилетий 36 картин, невзирая на цензурные запреты и ругань критиков. По заказу Третьякова в 1872 году были написаны лучшие перовские портреты — Достоевского, Даля, Погодина, Майкова, Тургенева,— благодаря чему Перов остался в истории русского искусства не только как жанрист, но и как выдающийся портретист, предшественник Ивана Крамского и Ильи Репина.
Перов, однако, не желал оставаться в истории искусства всего лишь жанристом, и после сорока, в последние годы жизни, все чаще пробовал силы в более благородных родах живописи, брался за сюжеты батальные («Пластуны под Севастополем»), евангельские («Снятие с креста», «Христос в Гефсиманском саду») и исторические («Суд Пугачева», «Никита Пустосвят», «Плач Ярославны»), но за что бы ни брался, выходило академично и литературно — по Толстому, Пушкину или Ренану. Ничего зазорного в иллюстративности живописец не видел, его жанровые сцены порой тоже имеют литературную основу, как «Старики-родители на могиле сына», отсылающие к финалу «Отцов и детей». Но разочарование прогрессивной критики было связано не с откатом к брюлловскому академизму и литературщиной, а с развлекательно-жанровыми «птицеловами», «охотниками», «рыболовами», «голубятниками» и «ботаниками» первой половины 1870-х, когда Перов, по словам Стасова, «покончил с трагизмом и с этих пор точно добровольно вычеркнул его из своей программы». (Своему заклятому оппоненту Стасову вторит и Александр Бенуа, сожалевший, что Перов «принялся смешить зрителей пустячными рассказиками».)
Хрестоматийный, классический Перов, Перов своего недолгого золотого века, 1860-х и первой половины 1870-х, был художником трагедии, с точки зрения либерально-демократического лагеря, или же художником «с тенденцией», с точки зрения лагеря консервативного. Тем, кого Стасов, не скупившийся на литературные аналогии, сравнивал то с Гоголем, то с Некрасовым. Сострадающим крестьянству и мастеровым («Проводы покойника», «Тройка»), знающим жизнь городского дна («Утопленница»), остро подмечающим сословные сдвиги и противоречия («Приезд гувернантки в купеческий дом»). И конечно, главной сенсацией стали его антиклерикальные картины 1860-х, в которых православное духовенство изображалось с беспощадной иронией протестантской этики малых голландцев, подлинных учителей Перова. «Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах», «Трапеза» — художник, столь чувствительный к социальным нюансам, представляет и церковь как театр, в котором разыгрывается спектакль сословного неравенства, и попов как сословие, облеченное властью отнюдь не от Всевышнего. (Эта часть перовского наследия пользовалась самой большой любовью советского искусствознания — постсоветское же не придумало ничего лучше достоевско-фрейдистских интерпретаций, дескать, у разночинца Перова, незаконорожденного и лишенного права на фамилию и баронский титул отца, имелись личные мотивы.)
Громче всего прогремел «Сельский крестный ход на Пасхе», написанный одновременно с «Проповедью в селе» в 1861 году в Петербурге: Императорская академия отметила «Проповедь» Большой золотой медалью — Перов получил право пенсионерской поездки за границу; «Крестный ход» отметил Священный синод, по чьему распоряжению картину сняли с выставки Общества поощрения художников, запретив к показу и воспроизведению. «Крестный ход» тут же купил Третьяков, заплатив огромную по тем временам сумму в тысячу рублей: это была первая перовская картина в его собрании, и это был жест, придавший коллекционеру большой авторитет в глазах художников,— по столицам ходили слухи, что «нигилисту» Перову вместо пенсионерской поездки в Париж светит непенсионерская поездка на Соловки.
Замечательно, что Синод более всего оскорбил «Сельский крестный ход на Пасхе», где сословная критика духовенства, кажется, уступает место другой теме: той социальной язве, перед которой равны все — духовенство и крестьянство, мужики и бабы. Перов, образцовый художник-шестидесятник, мгновенно отзывавшийся на животрепещущую повестку, не мог пройти мимо акцизной реформы Александра II — небывалая дешевизна спиртного бурно обсуждалась в печати. Даже Достоевский намеревался затронуть «теперешний вопрос о пьянстве» в романе «Пьяненькие», но, не найдя издателя для будущего произведения, пристроил бесхозных героев в «Преступление и наказание».
Перов — при всем своем малоголландском даре рассказчика и карикатуриста — не сделался записным бичевателем пагубного пристрастия, обличителем властей, спаивающих народ, но антиалкогольные мотивы проступают в его шестидесятнической живописи явно, как в «Гитаристе-бобыле», и скрыто, как в «Сцене у железной дороги», где позади крестьян, дивящихся на паровоз, у шлагбаума на посту стоит усталая баба в мужнем мундире — путевой обходчик, очевидно, не в состоянии исполнить служебные обязанности по уважительным причинам.
«Последний кабак у заставы», написанный тогда же, что и «Сцена у железной дороги», в 1868-м, не похож ни на одну другую картину Перова. Это такая жанровая сцена, в которой протагонистом становится пейзаж — ему поручена главная трагическая роль, а одушевленные действующие лица, две савраски, жучка и совсем окоченевшая в розвальнях девчушка, дожидающаяся загулявшего возницу, становятся его частью на правах статистов. Малый голландец непременно выпустил бы из кабака какого-нибудь пьянчужку, чтобы тот поскользнулся во тьме на обледенелых ступенях, но Перов, большой мастер рассказывать анекдоты, смиряет себя, становясь на горло собственной песне: вся его композиция — один минус-прием. Повествование оставлено за кадром — или, вернее, отправлено в «вертеп разврата»: алкоголический текст россики и русской литературы прячется где-то там, внутри, за окнами, весело горящими адскими огнями. Только пейзаж, атмосфера, колорит — все, что было слабым местом Перова,— говорят о беспросветности дороги, уходящей в закатную мглу, в никуда, в «Проводы покойника». Той дороги, что четверть века спустя продолжится левитановской «Владимиркой».