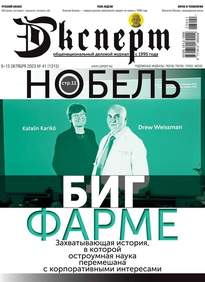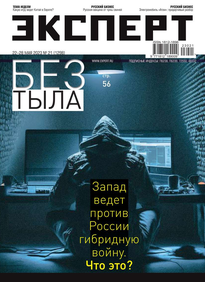Журнал «Эксперт» продолжает серию подкастов, приуроченных к 30-летию распада Советского Союза, в которых мы обсуждаем самые ходовые мифы о причинах этого события с ведущими историками, экономистами, политологами и культурологами.
Во втором выпуске мы обсудили миф о том, что распад Советского Союза был спровоцирован товарным дефицитом, который особенно сильно стал проявляться в поздние годы. По сути, он превратился в болезненный и рутинный фон советской повседневности и в итоге привел к девальвации всего советского проекта.
Чтобы опровергнуть или подтвердить этот миф, мы поговорили с Олегом Буклемишевым, кандидатом экономических наук, директором Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, и Андреем Блохиным, доктором экономических наук, главным научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Тихон Сысоев: Давайте сразу начнем с вашего отношения к предложенному мифу. На ваш взгляд, можно ли говорить, что именно хронический товарный дефицит в Советском Союзе обусловил его распад? Что эти два процесса связаны друг с другом?
Олег Буклемишев: С моей точки зрения, эти два процесса, безусловно, связаны. Между окончанием Великой Отечественной войны и распадом СССР прошло чуть больше сорока лет. И если поначалу какие-то продовольственные трудности можно было списать на послевоенное восстановление или объяснить необходимостью перестройки индустриальной базы, то уже к семидесятым годам эти доводы просто перестали работать.
Люди стали понимать, что советский потребительский стандарт довольно заметно уступает западному. Они замечали это как бы мельком, полусознательно. Например, из той же телевизионной пропаганды или из пропагандистского журнала «Америка», который тогда зачитывали до дыр.
А уже затем появилось это нагруженное специфически советскими коннотациями слово «достать» — слово, символизирующее позднесоветскую эпоху, когда дефицит стал проявляться особенно ярко. Неслучайно, кстати, в это время и формируется представление об Америке как о недоступном вкусе, вкусе потребительского рая. Отсюда, в частности, родилась знаменитая песня «Гудбай, Америка». Так что в этом смысле конкуренцию за желудок Советский Союз, конечно, проиграл, поэтому и распад СССР мало кого расстроил.
Т. С.: Вы сейчас отметили, что ярко дефицит проявил себя именно в позднюю эпоху СССР. И это действительно любопытно, потому что сохранилось много воспоминаний людей, в которых рассказывается, что в шестидесятые годы какой-то более или менее приемлемый выбор в магазинах все-таки был, а вот уже в семидесятые с прилавком потихоньку все начинает пропадать. Сначала премиальные продукты, затем сужается выбор обычных товаров, а потом начались совсем странные явления, когда могли неожиданно пропасть обычные зимние шапки. С чем это было связано? Какая структурная проблема стояла за этой потребительской аномалией?
Андрей Блохин: Давайте без иллюзий: пайки появились еще при Ленине, и эта система существовала на протяжении всего военного коммунизма. Впрочем, я бы не стал так уж отчаянно ругать советскую систему. Все-таки та экономическая модель, которая развалилась в девяностые годы, была выстроена к концу тридцатых годов, то есть просуществовала она довольно долго.
Т. С.: Выходит, это конец второй пятилетки?
А. Б.: Да, примерно тогда, и есть разные оценки, когда наступил ее первый кризис. Как правило, говорят о первой половине шестидесятых годов, когда пошел вверх показатель времени хранения сверхнормативных запасов на предприятиях.
Т. С.: Что этот показатель означает?
А. Б.: Как долго хранятся товары, произведенные и закупленные, и к тому моменту время «лежания» запасов стало заметно увеличиваться. Финансисты тогда связывали это с тем, что начался какой-то кризис, который заставил предприятия придерживать фонды, чтобы обменивать их на железо, трубы, водку и так далее.
Т. С.: Это то, что называют еще «бартерным социализмом»?
А. Б.: Да, и это уже был первый звоночек. А вот большой звонок — это косыгинская реформа, которая совпала с рыночным социализмом в Чехии и с идеями, которые циркулировали в Венгрии. Говорили, что на самом деле социализм и рынок друг другу не мешают, что можно организовать немножко рынка по периферии планового процесса и никто от этого не пострадает. Однако в СССР к тому моменту подоспела дорогая нефть, которая позволила покрывать убыточность всей остальной экономики, и о реформах забыли.
Фактически косыгинская реформа была осуществлена только в 1991 году, но она прошла спонтанно, хаотично, вразнос, в пять-десять раз сильнее, чем было нужно. Поэтому я, к слову, люблю шутить, что мы только сегодня наконец добились целей косыгинской реформы: у нас есть сильный госсектор и небольшая рыночная экономика по ее периферии.
Тем не менее, возвращаясь к нашему вопросу, дефицит в каком-то смысле был имманентен советской плановой экономике. Хотя сам дефицит я считают следствием той экономики, а не ее сущностным свойством. А вот ее свойством была разбалансированность, которая все сильнее шла вразнос. И чем больше она теряла баланс, тем больше было дефицита.
Неповоротливый Госплан
Т. С.: В таком случае, в чем заключалась эта разбалансировка? И откуда она шла — скажем, из работы того же Госплана?
А. Б.: Госплан, конечно, играл здесь огромную роль. Все же это была ограниченная машина и с точки зрения ресурса человеческого, и с точки зрения информационного. Грубо говоря, если бы речь шла только о железе, трубах или о простых товарах, условно двести позиций, то Госплан легко справлялся бы с этими объемами и дальше. Разбалансировка же начиналась на мелочах и на более больших объемах. А тут еще и научно-технический прогресс подоспел, и не только для населения, но и для армии, потребовались новые технологии. А Госплан неудобен для новых технологий.
Новые технологии — это изменение посреднических процедур, а Госплан — это стандартизованная посредническая процедура. А тут еще и потребительские предпочтения стали меняться: людям захотелось не просто выбирать «Волгу», «Запорожец» или «Москвич», а как на Западе, из десятков разных марок. И пока была дорогая нефть, можно было компенсировать эти изъяны, но ведь и компенсировали их тоже в ручном режиме. А когда у вас ручной режим, а не рынок, накапливается очень много ошибок, которые постепенно выводят всю систему из баланса.
Более того, любые инновации, новые потребительские товары или новые предпочтения сразу же многократно увеличивают издержки посредничества. В этом смысле Госплан с этим не справился не потому, что не умел, а потому что это было очень дорого.
Т. С.: В этом смысле нельзя ли сказать, что дефицит вообще вскрывает глубинный изъян всей хозяйственной системы СССР, которая была способна успешно реализовывать крупные проекты и решать крупные задачи, в то время как на уровне, казалось бы, проблем поменьше, требующих постоянного рутинного мониторинга, эта система уже не работала?
О. Б.: Думаю, что дело все-таки не в этом. Мне в этой связи вспоминается книжка «Дефицит», которую написал замечательный венгерский экономист Янош Корнаи. И в предисловии к ней он, в частности, замечает, что если какая-то проблема возникает систематически и носит повторяющийся характер, то это не какая-то ошибка, а именно системный изъян. И дальше на протяжении нескольких сотен страниц своего труда Янош Корнаи как раз разбирается, откуда этот изъян берется.
Он заходит с самых разных углов. Например, он заходит с инстинктов того, кто планирует экономику. С мягких бюджетных ограничений предприятий. С психологии менеджера, который хочет натянуть на себя как можно больше ресурсов и требует их от планировщика — тот самый ненасыщенный спрос на инвестиционные ресурсы. Кстати, это ведь резонирует и с современной экономической ситуацией в России, с этой тягой постоянно что-то проинвестировать, что-то сделать, построить. Это необязательно плохо, но что-то «госплановское» в этом, конечно, есть.
Следствием же этих проблем стало то, о чем справедливо заметил Андрей Алексеевич: предприятия, оказавшись в условиях дефицита, начинали складировать свои ресурсы и тем самым естественным образом этот дефицит только усугубляли. И никакой Госплан, при всем его величии, с этим институциональным устройством советской жизни справиться уже не мог.
В конце концов, если вы не допускаете ценовой механизм до распределения ресурсов, у вас все время будет возникать переинвестирование, дефицит ресурсов на рынке труда и так далее. То есть в данном случае дефицит касался не просто потребительского рынка. Он был тотальным и касался всей советской экономической системы. Просто на уровне потребления он психологически ощущался сильнее всего.
Не нужен нам потребительский рай
Т. С.: А проблема низкой производительности труда в СССР, о которой очень часто пишут сегодня те же американские экономисты, как-то обусловливала дефицит?
О. Б.: Я с индикатором производительности труда стараюсь быть достаточно осторожным. Например, очевидно, что производительность труда в нынешней российской экономике выше в экспортных отраслях, которые производят валютный продукт по высоким ценам. А в других отраслях, которые работают на внутренний рынок и производят что-то гораздо более дешевое, производительность труда оказывается меньше, хотя люди, наверное, трудятся не хуже.
Но в целом вы абсолютно правы: стремление выжать из экономики все заводит вас далеко за оптимальную точку использования инвестиционного ресурса. Если у вас много инвестиций, это означает, что вы обязательно проходите точку инвестиционного оптимума, а значит — задействуете ресурсы с меньшей эффективностью.
Т. С.: Если уйти из чисто экономической плоскости и перейти в условно культурологическую, нельзя ли сказать, что сам товарный дефицит для советской номенклатуры и не представлял большой проблемы? Потому что существовал этот устойчивый паттерн на критику буржуазного образа жизни, за которой отсутствие изобилия той же колбасы рассматривалось как нечто нормальное, даже желательное. Работала ли здесь эта психологическая оптика?
А. Б.: Да, она, конечно, работала. Ведь любая экономическая система всегда продает своим гражданам будущие блага за счет текущих благ — например, будущий потребительский рай обменивается на сегодняшний терпеливый труд с его низкой оплатой. В том же Советском Союзе этим будущим был сначала обещанный коммунизм, а затем «соревнование с загнивающим капитализмом», с помощью которых людей пытались «подкупить».
Люди вообще склонны верить обещаниям и обменивать блага настоящие на блага будущие. Но чем дальше, тем этот обмен становился все менее эквивалентным. В этом смысле Советский Союз проиграл конкуренцию не за «сегодняшний» желудок, а за «завтрашний».
О. Б.: Сама жизнь, если угодно, это обмен благ сегодняшних на блага будущие.
А. Б.: И тот же американский глобальный фондовый рынок именно так и устроен. Он постоянно обменивает одно будущее на другое будущее, более отдаленное. Но когда люди перестают верить в это будущее, как произошло в том же Советском Союзе, рынок сворачивается и инвестиции перестают работать. Ведь инвестиции нужны для того, чтобы запускать новые проекты, но когда в будущее никто уже не верит, непонятно, зачем нужны сами эти проекты.
О. Б.: Более того, нужно помнить о том, что частный интерес всегда сильнее любой пропаганды. Я хорошо помню восьмидесятые годы, когда дефицит стал ощущаться все острее и острее. И как раз тогда стали появляться все эти фильмы про духовность, про то, что не нужен нам этот потребительский рай, и так далее. Но, наверное, человек устроен немножко иначе — замешан не на аскетизме, а на духе потребления, на котором стоит современная экономика. И вот на этом, я думаю, Советский Союз тоже очень сильно споткнулся.
Т. С.: Можно ли говорить, что дефицит в Центральной России усиливался еще из-за идеологической политики по отношению к сателлитам? Мы же знаем, что уровень жизни и потребления в той же Грузии был значительно выше, чем в среднем по РСФСР.
О. Б.: Нет, в части, например, той же Грузии этого точно не было. Здесь работал механизм дифференциальной ренты в отсутствие свободного ценообразования. Речь идет об излишках, которые оставались за счет экономии на издержках производства и за счет лучших климатических условий в процессе создания сельскохозяйственного продукта. В идеале этот излишек должен был бы изыматься, например за счет тех или иных налогов, для выравнивания условий экономического развития. Однако этого не происходило, и эта рента просто присваивалась, но опять-таки не всем населением, а местной элитой.
При этом я бы не сказал, что, например, среднеазиатское население в СССР в среднем жило лучше, чем население в РСФСР. Многое зависело и от стартовых условий, и от качества политики в области регионального управления. И, кстати, тот факт, что Советский Союз распался как раз по республиканским границам, прочерченным в Конституции, еще раз подтверждает, что Советский Союз просто не справился с теми управленческими перекосами, которые долгие годы накапливались. Наверное, их и невозможно было устранить в рамках столь ригидной и относительно плохо регулируемой системы.
А. Б.: Я немного с другой стороны хотел бы добавить относительно устройства экономики южных республик. По сути, они получали доход из-за того, что продавали те же фрукты по ценам, которые были выше установленных государством. То есть система почему-то боялась ввести свободу ценообразования, которая могла бы закрыть этот изъян, и южные республики этим пользовались, продавая свой продукт по более высоким ценам.
Одна страна и один продукт
Т. С.: Кстати, а откуда вообще взялись такие проблемы в советском сельском хозяйстве? Почему нельзя было хотя бы здесь обеспечить людям более или менее разнообразным и стабильным выбором? Сказались последствия коллективизации или все дело в плохом менеджменте?
О. Б.: Эти проблемы шли, конечно, и от коллективизации, и из-за идеологической жесткости режима, который не хотел допускать даже ограниченных элементов рынка внизу. Свою роль сыграла и закостенелость коопераций, которые просто не соответствовали уровню развития села.
Я в связи с этим люблю задавать студентам один вопрос: «Есть в мире одна страна, и есть один продукт. Эта страна являлась крупнейшим экспортером этого продукта, потом на семьдесят лет стала его крупнейшим импортером, а потом в одночасье опять стала крупнейшим экспортером того же самого продукта. Скажите, пожалуйста, о какой стране и о каком продукте идет речь?» Ответ очевиден: это Россия и зерно.
Самим шокирующим здесь было то, что в начале «нулевых» в стране просто не оказалось мощностей для обеспечения экспорта зерна. Я это очень хорошо помню, потому что работал тогда в правительстве. В итоге проблему удалось довольно быстро решить за счет сравнительно небольших усилий.
Был принят закон о частной собственности на землю. Введена относительно небольшая по нынешним меркам государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли, субсидирование процентных ставок и лизинг. Плюс — и это очень важно — удалось «посеять» веру в будущее, когда люди стали понимать, что можно хозяйствовать на своей земле и получать прибыль. Вот это все тогда и сработало. Думаю, что это сработало бы и в Советском Союзе, но элита испугалась.
Т. С.: Испугалась дать колхозам большую автономию?
О. Б.: Тут дело даже не в автономии, а в том, что это сразу привело бы к расслоению на селе.
Т. С.: Опять кулаки.
О. Б.: Опять кулаки, да. То есть пришлось бы что-то делать с идеологической системой, как-то ее под рынок подлаживать, и советские партийные бонзы, конечно, на это не пошли бы.
А. Б.: Я хотел бы в противовес немного добавить. Смотрите, в России экспорт продовольствия и вообще все рыночные структуры, которые создают и продают продовольственные товары, выросли не просто из-за того, что им дали больше свободы, а из-за того, что выстроились нормальные посреднические организации. Эти организации закупают, продукты, умеют их хранить, обладают своей логистикой. Они понимают на какие рынки и когда выходить. То же самое касается и экспорта.
В СССР посредничество было монополизировано государством, которое работало только с очень большими поставщиками и, проигрывая в гибкости, оно выигрывало на масштабах и системности работы. В девяностые годы оно было разрушено и сейчас строится заново.
Вот представьте, что у вас есть товар. Если нет посреднических структур, то к вам либо придет крупный зарубежный посредник и скупит все на корню, и тогда свою маржу вы просто потеряете, потому что продадите дешево. Либо вы сами будете бегать по рынкам с небольшими партиями, потратите больше сил на то, чтобы все это продать, и не окупите эти усилия. Так вот, в СССР подобных посреднических структур, по сути, не было. И даже сегодня задача создания крупных стратегических посредников в той же экспортной сфере многих отраслей еще не решена и стоит очень серьезно.
Не окупленные нервы и несправедливое неравенство
Т. С.: Известно, что в СССР особый доступ к дефицитным товарам имели те люди, которые продвинулись по служебной лестнице. Те же писатели, актеры, ученые, руководители предприятий, отраслевые управленцы, функционеры — у всех у них были свои спецмагазины и спецпайки. В этом смысле нельзя ли сказать, что дефицит, помимо того что он был постоянным раздражающим фоном советской повседневности, вводил в советское общество еще и новые линии неравенства, когда доступ к определенным товарам определялся уже твоим статусом?
О. Б.: Была такая частушка: «Народ и партия едины, различны только магазины». На самом деле примерно так же оно и было в жизни. Конечно, ригидная система цен и заработной платы дополнялась всякими нематериальными «бонусами» в виде, например, раздачи дач, различных дополнительных льгот, особенно лакомых заказов. Но как только эта система оказалась разбалансирована, пошла социальная трещина, которую никак нельзя была залатать в рамках той экономической системы, что легко понять, если войти в постсоветскую эпоху.
Действительно, люди, которые были лишены этих бонусов и не могли получить адекватной компенсации своих зарплатных и ценовых потерь, оказались пострадавшими по сравнению с теми, кто эти бонусы получал. Особенно во время перехода к новым рыночным механизмам, который очень многих держателей той же собственности обогатил. Однако нивелирование дефицита «пострадавшим» тоже по-своему помогло, потому что это расширило их потребительский выбор и открыло доступ к тем товарам, о которых раньше они не могли и мечтать. То есть одни получили широту, а другие — лучшее качество жизни.
В этом смысле стоит вновь вспомнить о ценовом механизме, который хорош тем, что работает сам по себе. Его зарядили, включили, и он, как писали еще классики экономической науки, дальше работает автономно. И не дай бог в него вмешиваться, потому что это тут же приводит к очень болезненным сбоям. Но как только вы ценовой механизм отключаете, вы сразу же обрекаете себя на то, чтобы тратить очень много внимания и ресурсов на компенсацию его отсутствия. Собственно, вся советская система во многом работала именно на эту компенсацию.
Т. С.: И произошел надрыв.
О. Б.: И произошел надрыв, и эти сложные распределительные системы перестали работать. Пошла трещина. Начались очереди. А очереди — это очень плохой экономический и социальный симптом. Потому что в очереди приходится инвестировать не только деньги, но и время.
А. Б.: И нервы.
О. Б.: И нервы, и многое другое. Я до сих пор с ужасом вспоминаю 1990‒1991 годы. У меня тогда как раз родилась дочка, и добыть в этот период слома старой системы то же детское питание было целой проблемой.
Т. С.: А сколько часов могло на это уйти?
О. Б.: Тут опять-таки дело было не сколько в часах, сколько в нервах. Ты понимаешь, что инвестируешь свой жизненный ресурс в то, что с высокой вероятностью не принесет результата. И это очень сильно раздражает. Мы в те годы вообще оказались, наверное, в самых худших экономических условиях, когда уже вроде бы работали рыночные силы, но централизованное распределение продолжалось. Нет ничего хуже застрять здесь посередине, когда ни то ни се.
Мы, кстати, и сейчас застряли примерно там же. Образно говоря, у нас есть экономика и «больших слонов», и «маленьких котиков». Конечно, этих «котиков» и «слонов» можно по разным характеристикам сравнивать, но это все-таки разные звери. И когда они начинают жить в одной экономике, им часто бывает очень сложно. Лучше решить: либо перейти к слонам и пусть они затопчут всех котиков, либо дать котикам свободно гулять, чтобы их не топтали.
А. Б.: И дать им съесть всех слонов.
О. Б.: Или, по крайней мере, закрыть этих слонов в зоопарк. То есть смешанные системы наиболее уязвимы.
А. Б.: Я хотел бы добавить, что дело все же не в самом неравенстве, которое дефицит, конечно, провоцировал. Мне кажется, что в России к самому неравенству относятся терпимо, но только когда само это неравенство в каком-то смысле справедливо. Когда я, например, понимаю, что живу хуже гражданина N, потому что он, в отличие от меня, сделал какое-то великое открытие.
А вот в позднесоветское время накопилось ощущение именно несправедливого неравенства: я получаю меньше, хотя делаю то же самое, что и гражданин N», а может, даже и больше, — это несправедливо. Именно такое несправедливое неравенство росло, и оно чем дальше, тем больше раздражало. И когда вся система — даже на уровне идеологии — пошла вразнос, это ощущение стало очень сильно проявляться на бытовом уровне.
Вот этот постоянный тихий ропот между собой, который постепенно давал свои искажения. Дескать, понятно, почему этот колхоз живет плохо, — потому что он работает плохо. Но вот рядом есть успешный корейский совхоз, в котором крутятся огромные деньги. Да, они вроде бы лучше работают, но зачем им эти огромные деньги?
«Я четыре голода пережила и этот переживу»
Т. С.: Завершая каждый из наших подкастов, мы решили задавать нашим собеседникам одинаковый вопрос: каким вы запомнили для себя момент осознания развала Советского Союза, и изменилось ли ваше отношение к этому событию за минувшие тридцать лет?
А. Б.: Не могу сказать, что мне запомнился какой-то конкретный момент. Тогда все было очень насыщенно. Но мне запомнилось одна очень яркая сцена, которую я наблюдал накануне развала. Я был тогда летом в городе Касимове, отдыхал неподалеку от него. И, помню, зашел в магазин, а на прилавках все совсем пусто. До этого еще стояли какие-то банки с томатной пастой или какие-то рыбные консервы, а тут совсем ничего. И пока я стоял и смотрел на эту пустоту, в этот же магазин зашла бабулька. Она как-то весело осмотрела пустые прилавки, топнула каблучком и сказала: «Я четыре голода пережила и этот переживу». Повернулась и ушла.
Конечно, во всем, что тогда происходило, лично я видел совершенно железную логику неизбежности, и потому к самому развалу СССР я не относился отрицательно и не отношусь сейчас. Хотя трудностей после развала, конечно, пришлось пережить немало, но я всегда оставался оптимистичен.
О. Б.: А мне в последние годы, наоборот, все чаще начинает казаться, что развал СССР не было чем-то необходимым и предопределенным. Хотя, конечно, многое можно было бы сделать по-другому, и у советского руководства накопилось очень много ошибок в последние годы. В этом я убедился, когда пришел работать в Министерство финансов России в долговой блок, который во многом вынужден был с огромным трудом и издержками исправлять эти ошибки.